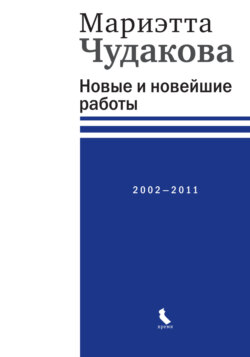Читать книгу Новые и новейшие работы 2002—2011 - Мариэтта Чудакова - Страница 9
«Военное» (июль 1941 г.) стихотворение Симонова «Жди меня» в литературном процессе советского времени
6
ОглавлениеТеперь можно предположить, что для Твардовского лирика Симонова – со всеми ее уже очевидными читателю особенностями – стала разрушением столь основательно созданного в его собственной лирике мира – его универсума, полного гармонии, лишенного не только демонизма, но и какого-либо оттенка неразрешимости, безнадежности, отчаяний, мучений, причиняемых людьми друг другу.
Теперь понятны его не угрожающие, а, скорее, отражающие некую растерянность слова: «Идея революции не ощутима ни в прозе, ни в стихах Симонова».
Им самим затрачены огромные усилия на обретение баланса – его лирика идеологична, но в ней есть поэзия (напомним хотя бы «Песню»). А тут этот баланс не только нарушен, а будто отброшена сама его необходимость.
Но смятение Твардовского имеет еще более глубокие истоки.
Не раз публично отказавшийся от своего слоя – работящего русского крестьянства, сам он внутренне, естественно, никогда не порывал с ним (это обнаруживалось в его дальнейшей литературной жизни все более и более). Он хотел писать для всего народа, но так, чтобы это был голос крестьянской России – растоптанной, как он в глубинах своего поэтического сознания, конечно, не мог не чувствовать, но все еще составлявшей большинство страны. И вдруг он увидел поэта, ступившего на ту народную тропу (речь идет в первую очередь о стихотворении «Жди меня», получившем всенародную известность), на которой были сосредоточены его собственные помыслы, – и ступившего не той, городской походочкой. В его письме В. Александрову вдруг выявилось: задето что-то очень глубокое. Схлестнулись две идеологии: городская (победившая) и деревенская – крестьянская, безнадежно попранная и, с точки зрения Твардовского, его усилиями путем с трудом достигнутого баланса поднятая на поверхность общественной жизни в его стихах. И вдруг этот «несмелый» голос заглушен звуком городского жестокого романса, что-то вроде «Маруся отравилась».
Отталкивание Твардовского от героев Симонова – людей «храбрости, мужества, стоицизма» (в цитируемом письме к В. Александрову) – зарождается еще в его поисках своего места в литературном процессе второй половины 1930-х годов.
Особая тема для размышления и историко-литературных характеристик – возникший в 1936–1937 годах в отечественной литературе болезненный интерес к предельным состояниям человеческого существа, к мучениям и пыткам. Изображение их могло быть отнесено только а) к прошлому (особенно Гражданская война), б) если к настоящему, то к происходящему в иных землях, в) только к нашим (мучения врагов показывать не рекомендовалось, так как тогда вставал вопрос о мучителях). Сложным образом сублимировались подавляемые впечатления от непонятных и страшных текущих отечественных событий. Именно Симонов начал культивировать мужество – как бы новой волной после раннего Н. Тихонова (многим обязанного Гумилеву) – и мужской стоицизм. Непременной темой стала мужественная смерть. «Мужество века действительно стало основной проблемой нашей литературы. Эта проблема диктует и выбор героев, и выбор сюжетов, и метод их трактовки. <…> Если сосчитать, сколько раз слово “мужество” фигурирует в заглавиях стихов, романов статей, – получится довольно внушительный список. Достаточно назвать сборник стихов “Мужество” Азарова, <…> цикл стихов Симонова “Мужество”, статью Симонова о Долматовском “Школа мужества” <…>. Декларациями мужества полны стихи Долматовского, Гитовича, Кежуна, Лихарева и ряда других поэтов»[66]. В отличие от Тихонова, Симонов оказался под влиянием не столько Гумилева, как он и сам вспоминал, а того, под чьим влиянием был сам Гумилев, – Киплинга[67], «Избранные стихи» которого вышли в самом конце 1936 года, почти наполовину в переводах А. Оношкович-Яцыны (стоит напомнить, как ценил эти переводы Гумилев).
Внутренний полемический накал Твардовского по отношению к Симонову возникает в особом литературном пространстве.
Считая, можно думать, поэзию, созданную до середины 1930-х, негодной к употреблению (примечательным образом совпадая с самооценкой Пастернака – «Я не люблю своего стиля до 1940 года») – во всяком случае, в целом, нетронутом виде, Симонов рассматривает ее как вторичное сырье, годное для переплавки в другую, новую поэзию.
Так он относится к Пастернаку.
Стих 3-й главки третьей части «Лейтенанта Шмидта» стал камертоном поэмы Симонова «Первая любовь» – первой попытки совместить лирику с сюжетным повествованием, упрощая, перелагая для бедных опыт великих современников. Образный ряд поэмы Пастернака также узнается в поэме Симонова.
Он вдруг устал от душной темноты.
На глубине за дальними песками
На якорях стоявшие плоты
Всю ночь ему моргали огоньками.
<…>
Так низко проплывают облака,
Что можно лежа зацепить руками,
На мачтах два зеленых огонька,
Как лампочки, висят под облаками.
Строфы из «Спекторского» использованы в той же поэме Симонова; для того чтобы это увидеть, можно, в сущности, сопоставлять наугад, почти без выбора (весь этот материал мы оставляем за пределами этой статьи). Несомненно, под впечатлением героя поэмы, которого автор называет Сергей, Сережа, а также под впечатлением пастернаковского изобилия предметов и образов (как бы излишнего для одного поэта) Симонов пишет в 1938 году небольшую поэму «Сережин сон», где приспосабливает героя кончившейся «беспредметной» эпохи к точному заданию нового времени.
Чужая улица теснится
За узким броневым окном.
Сережа спит. Сереже снится,
Что он водитель в головном.
<…>
Ударившись о край постели,
Сережа вскрикнул и не смог
Проснуться. Каждый мускул в теле
Был словно заперт на замок.
Сон не пускал его обратно.
Кровать. Походный лазарет.
Прибит на стенке аккуратно
Пассионарии портрет.
В отличие от дневного – неурочного и никуда, так сказать, не ведущего – сна в «Спекторском», за который герой себя корит («И дернуло ж вас днем на боковую»), у юного героя Симонова правильный ночной сон – он участвует в боях в Мадриде. Правильно и его пробуждение: его Испания из сна перетекает естественным образом в явь:
На улице сухое лето,
В Москве мадридская жара.
Хвосты дежурят за газетой
Чуть не с восьми часов утра.
Весь город привела в волненье
Одна газетная строка:
«Республиканские войска
Вновь переходят в наступленье».
«Младоопоязовский» критик Т. Хмельницкая отмечала в упомянутой выше статье 1940 года («Твёрдые строки…», с. 133) и переклички с поэмами Пастернака ранних симоновских поэм «Победитель» и «Возвращение» (полностью печатавшейся позже под названием «Первая любовь»).
О лирической поэме «Пять страниц» (1938) критики пишут: «Несоответствие между тонкостью, лиричностью темы и математической сухостью повествования разительно. Оно еще оттеняется пастернаковским ритмом, который здесь так же блекнет и глохнет, как и ямб в “Ледовом побоище”»[68]. Главным же образом Симонов создает в предвоенные годы довольно мощный фонд агитационно-эмоциональной сюжетной поэзии нового толка – как бы рассчитанной на начитанного подростка. Он активно участвует в формировании литературного процесса, в котором не оставлено, в сущности, места ни поэту, ни адресату поэзии – читателю, способному воспринять Пастернака и, напротив, не способному считать поэзией стихи Симонова. В сущности, именно об этом – о целеустремленно и энергично проделанной замене поэзии чем-то иным, внешне ее очень напоминающим, было сказано наиболее квалифицированным критиком-современником, но в специфическом литературно-общественном контексте вряд ли было кем-либо расслышано и осмыслено. Ни у кого в его поколении, писала Т. Хмельницкая, «нет такой масштабности творчества, <…>такого ясного чувства цели.<…> В этом своеобразное оправдание той последовательной и упорной работы Симонова, которую можно было бы назвать разрушением стиховой замкнутости. Ибо Симонов больше, чем кто-либо из современных поэтов, оставаясь в традиционной форме стиха, уничтожает представление о поэзии как о специфическом виде искусства. В его стихах перестает ощущаться разница не только между поэзией и прозой, но и между поэзией и театральной пьесой и киносценарием. Тема, герой, материал перерастают стихи, вынимаются из стиха (убийственная характеристика, притушенная опоязовским способом аналитического высказывания. – М. Ч.). Поэзия для Симонова – это не лирическое погружение в себя, а прежде всего мысли в строю. <…> Никакого лирического тумана, никакого смутного погружения в неопределенные оттенки чувств, никакого спутанного и стихийного переживания мира наедине с собой и для себя. Симонов прежде всего хочет быть активным бойцом слова на всех передовых участках окружающей его действительности…»[69]
К началу 1940-х Пастернак, обретя новое поэтическое дыхание и новый, как он сам полагал, стиль, стихами из цикла «На ранних поездах» начинает теснить своих заместителей. «Великую проблему поэзии для всех, а не для избранных» (Мандельштам), не решенную Маяковским, он заново пытается разрешить. В это время его усилия и его путь на мгновение – историческое! – встречаются с усилиями Твардовского.
Начавшаяся война оказывает сложное воздействие на огромное, уже начинавшееся движение литературы к новому циклу.
1943 год стал годом попытки литературы освободиться от деформации под социальным прессом – выбиться в русло, где должны были слиться рукописный и печатный потоки. Он же стал и годом пресечения этих попыток. На языке наших представлений о литературном процессе советского времени отечественная литература должна была войти в новый, второй цикл, но сделать это ей не удалось. Как только укрепилась линия фронта, в декабре 1943 года партийные функционеры сигнализируют одному из секретарей ЦК партии о напечатанных или предлагаемых к печати «антихудожественных и политически вредных произведениях», одно из них – стихотворение «Эпизод», «в котором Сельвинский цинично воспевает войну за то, что она дала ему счастье обладать молодой девушкой с Кубани»[70].
В прозе памятником этой короткой оттепели и внезапности заморозков осталась наполовину напечатанная (в сущности, непечатная по советскому регламенту любого времени) повесть «Перед восходом солнца», в поэзии – отрывки поэмы Пастернака «Зарево»: в ней было выражено прямое предвидение «новизны народной роли» в послевоенной России. Но поэма осталась не только недопечатанной, но недописанной. Не реализовалась, как известно, и новая роль народа.
Пастернак не продолжил в поэзии движение в сторону, обозначенную в 1941 году прежде всего в стихотворении «На ранних поездах», – туда, куда двигался в военные годы Твардовский. Предвоенная «встреча» двух поэтов оказалась короткой.
На рукописи неоконченной поэмы Пастернак написал: «Именно ее непоявление в “Правде”, для которой писалась поэма, отвратило от мысли продолжать ее»[71]. Спустя десятилетие с лишним, завершая роман «Доктор Живаго», он, по свидетельству И. Емельяновой, «попытки создать якобы “неподцензурные” издания (например, альманах “Москва”) не поддерживал и предпочитал им откровенно казенные издательства»[72]. Действовала, на наш взгляд, телеология пытавшегося начаться второго цикла: «неподцензурное» должны были, по невыраженному, но подразумевавшемуся представлению поэта, улавливавшего закономерное движение литературной эволюции, печатать «казенные» издательства. Он не желал нисходить по новой лестнице – от «более» цензурного к «менее» цензурному, а затем к еще не поименованному самиздату. Он готовился – если не будет возможности соединить рукопись с нормальным печатным станком – соединить ее сразу с общемировым Гутенбергом, опять-таки минуя ступени.
Продолжалась большая поэтическая работа в становившемся все более полноводным заведомо рукописном потоке русской отечественной литературы. В этом именно потоке возродилась и укреплялась в годы войны традиция главным образом гражданской лирики.
66
Хмельницкая Т. Твердые строки: поэзия Симонова // Литературный современник. 1940. № 2. С. 131.
67
Свидетельства самого Симонова об этом собраны в содержательной вступительной статье Л. И. Лазарева к тому «Стихотворения и поэмы», 1982.
68
Гринберг И. Стихи Константина Симонова. С. 245.
69
Хмельницкая Т. Твёрдые строки… С. 130.
70
«Литературный фронт»: История политической цензуры 1932–1946 гг.: Сб. документов / Сост. Д. Л. Бабиченко. М., 1994. С. 93.
71
Ивинская О. Годы с Борисом Пастернаком: В плену времени. М., 1992. С. 166.
72
Емельянова И. Легенды Потаповского переулка: Б. Пастернак. А. Эфрон. В. Шаламов: Воспоминания и письма. М., 1997. С. 60.