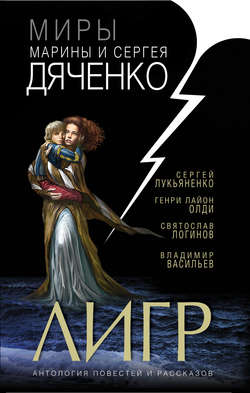Читать книгу Лигр - Марина и Сергей Дяченко - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. До и после
Ирина Родионова
Последний глоток света перед тьмой
ОглавлениеЕсли совокупность миров «Казни» делает ее одним из самых загадочных романов Дяченко, то «Армагед-дом» – наоборот, один из наиболее «обычных»… во всяком случае, по месту действия. Налицо не какая-то условно восточноевропейская страна, которую не отыщешь на карте, а совершенно наш мегаполис, с узнаваемыми улицами и площадями, именами его обитателей, их проблемами… Ой ли?
На самом деле этот мир тоже не отыщешь на карте, что становится понятно с первых же строк. Потому что его особенностью является «мрыга», апокалипсис, происходящий каждые двадцать лет. Он несет много бед, среди которых – нашествие глеф, чудовищных тварей из моря… являющихся потомками мирных дальфинов. Причем мы можем предположить, что тайна дальфинов как-то сопряжена с глобальной загадкой апокалипсиса.
Да, предположить это мы можем, но точного ответа не знает никто.
«…Детенышей дальфинов попросту не существует в природе. Желая подтвердить теорию Дорфа, его последователи провели несколько глубоководных экспедиций… Накануне очередного апокалипсиса отважным ученым удалось погрузиться на глубину более тысячи метров и заснять объект, впоследствии получивший название «дальфинья кладка». Это и есть кладка: дальфины откладывают яйца, как это делают, к примеру, стрекозы… В час апокалипсиса срабатывает «биологический будильник», природа которого до сих пор не ясна – вероятно, это мультифакторная система, учитывающая сейсмические колебания, изменение температуры воды и ее химического состава. Из отложенных дальфинами яиц появляются на свет существа, известные нам как глефы… Целью недолгой жизни глефы является поглощение разнообразной органики. Добравшись до берега, они выходят на сушу, где и поглощают все, до чего могут дотянуться… Насытившиеся глефы возвращаются в море и там переходят на следующую стадию развития – покрываются оболочкой и замирают, подобно куколке у насекомых. В таком виде им удается пережить апокалипсис… Всего через несколько месяцев после катаклизма из куколок появляются на свет дальфины, какими мы их знаем. Они питаются рыбой и, как правило, не представляют опасности для человека…»
М. и С. Дяченко «Армагед-дом»
…Они затаились где-то там, внизу, под огромным массивом воды, немые и слепые, безвольные и слабые, с хрупкими тонкими конечностями и огромными, заполненными чернотой, глазами. В этой абсолютной и глубокой тьме время студенисто застыло: то и дело она, совсем крошечная, ломкая и зыбкая, приподнимала голову на тонкой шее и всматривалась сквозь полупрозрачный пузырь в кромешную темноту. Вверху колебалось маленькое голубоватое пятнышко, едва различимое, настолько неясное, что порой ей казалось – это лишь иллюзия. Голова работала как часы: тикали мысли, переплетаясь и сливаясь, с помощью своего воображения она пыталась населить холодную воду всем тем, что приходило на ум: красивые узоры, такие же тонкокостные, но сильные животные, россыпи точек и пузырей, полосы света и тьмы, кусочки обломанных эмоций. Ей категорически не хватало опоры в мыслях: она помнила что-то колеблющееся за границами сознания, большой короб, в котором тепло, запах чего-то сладкого, рассыпчатость на руках и зыбкое ощущение… счастья? Это было настолько тонким, что стоило ее мысли вцепиться – и кружево расходилось, становясь лишь горой истончившихся, рвущихся от старости ниток. Узоры она плела из пузырей, нитками ей представлялись тонкие стебли чахлых водорослей, едва держащихся за жизнь на немыслимой для них глубине.
Она росла. Ждала. Совершенствовалась.
Мать проплывала над ними пару раз – огромное пятно черноты, еще более глубокой и сосущей, чем вода, чем весь мир вокруг – в такие моменты маленькая всегда замирала, раскрывая огромные, почти не видящие, покрытые пленкой, полуслепые глаза, и в восхищении провожала гулкое, тяжелое существо взглядом, даже самой душой, если только она была в ее странном, узловатом теле.
Это было приятно. Это успокаивало.
Когда где-то у самого светлого пятнышка появилась серебристая, едва различимая, похожая на волосок, труба, маленькая затаилась в страхе. Труба покрутилась, прожигая воду бессмысленно таращащимся зевом, и вновь неспешно уплыла к вершине, оставив ее жить в темноте одну. Снова одну – крошечную, испуганную, ничего не понимающую. Однако труба возвращалась еще не раз, чтобы провернуться пару раз вокруг своей оси и воспарить в холодном сумраке в недосягаемость.
Она вновь росла – заметно удлинялись конечности, на которых нарастали бугры и зубцы, вытягивалась голова, глазницы становились сплошными провалами, но видеть она начинала все четче, все яснее. Ей приходилось собираться в комок, обхватывать свое тонкое, но уже наливающееся силой тело длинными подобиями рук и все чаще задирать подбородок ввысь, вглядываясь в голубое пятнышко.
Ждала.
Пока однажды оболочка не лопнула беззвучно в тишине, опадая молочно-бесцветными пеленами на дно. Она взбрыкнула, хватаясь длинными, скрюченными пальцами за зыбкую поверхность, и только тогда ощутила невесомость – легкую, воздушную, свободную. Увидев, как рядом черные тени вспарывают оглушающую темноту, едва различимо силуэтами устремляясь к голубизне, взмахнула руками и ногами, отрываясь от илистого, склизкого дна и видя, как темнота всасывается словно сквозь воронку, уступая место синеве, а затем и голубовато-серой поверхности, расчерченной бликами багряных оттенков.
Они выныривали, и она вместе с ними, делая первый глоток воздуха, ударяющего в голову упругой волной горечи, рассматривая воду, уходящую в горизонт, и близкий берег, где мельтешили точки, где раздавались гулкие взрывы и треск чего-то пугающего.
Где пылало и билось в истерике небо.
Рядом взревел мотор, и истошный человеческий вопль развернул головы всех чернеющих существ, качающихся в большой волне:
– НЕТ! Секунду! Я не заснял!
Она поняла его – никогда не слышавшая до этого человеческой речи, все же уловила смысл, почувствовала ясность нутром и, развернувшись, мощно погребла к широкой лодке, желая поближе увидеть неведомое, но смутно знакомое существо – с тонкими небольшими руками, белыми пальцами, держащими штатив с набалдашником и бешено размахивающими им по сторонам. Прежде чем, рыкнув, лодка унеслась в пену, разрезая большие волны покосившимся носом, она успела разглядеть широкое лицо с зелено-серыми, пылающими страстью глазами, с улыбкой восторга, с раскрасневшимися щеками и взлохмаченными длинными серебристыми волосами. Она испытала что-то похожее на чувство сопричастности – ее на мгновение обдало страстной жаждой увидеть, познать, почувствовать.
– Глефы!!! Жми! – орал кто-то, и вскоре лодка стала еще одним пятном в ее жизни, только теперь черным.
Так она узнала, что зовется Глефой.
* * *
На берегу было пусто и ветрено – Глефа выползла из моря сначала на брюхе, волоча непослушные ноги, а потом, дрожа, все же смогла подняться, распрямиться во весь свой рост, оглядеть мир. Впервые с высоты, а не из самых глубин. Глянцевая, черная, покрытая капельками воды, она пробиралась по песку, увязая в нем, раскрывая и закрывая мощные челюсти, катая кислород во рту. С набережной, одной из улочек вдалеке, ее увидела худенькая девчушка в текущем от моря потоке людей, округлила глаза и зашлась бешеным ревом, распахнув большой круглый рот. Глефа почувствовала себя невесомо, будто нащупала тонкую нить-связку, но это чувство смыло в небытие будто соленой холодной волной. Кто-то подхватил девчонку на руки и быстро побежал сквозь толпу, не оглядываясь на черный длинный силуэт.
Глефу это удивило – она осмотрела собственные руки с наростами, сжимая подобие пальцев, и двинулась по берегу, ощущая бурлящий внутри голод. Есть хотелось страшно, но эти бегущие муравьи, уносящиеся со всех ног, вовсе не пахли вкусно или маняще – они боялись ее, и это было странно. Похоже на… смущение? Недоверие? Огорчение?
Она не осознавала натуры своих чувств, не знала, что ей делать дальше. На берегу из лодки выгружались люди, толкали и бросали друг друга, кидаясь в узкие переулки, как в омут. Глефа поковыляла к ним по песку, но люди бросились врассыпную, испуганно крича и махая руками. Последним увлекли за собой того странно светловолосого мужчину – он до последнего сжимал штатив в руках, снимая ее, и в глазах его прыгали чертенята.
Над головой затрещал вертолет.
Глефа двинулась в город, и только тут поняла, НАСКОЛЬКО ей не рады – грохот, крики, пальба. Она продиралась по улицам, перешагивая через людей, закрываясь руками от жалящих пуль, умоляюще таращилась в небо и только раскрывала рот, не в силах вымолвить не звука. Люди обтекали ее широким потоком, кто-то самоотверженно бросался, молотя по ней руками, а Глефа все шла, протягивая к ним руки, пытаясь поделиться собственными чувствами, собственными эмоциями – небо над головой, вокруг лишь воздух, без давящих тонн ледяной воды, и она, большая, сильная, прекрасная, прямо перед ними… Глефа махнула рукой, отгоняя надоедливый кусок железа, что больно жалил без передышки, и, зацепив пальцами, уронила прямо на землю – взрыв заставил мир вздрогнуть, пламя вспыхнуть и взметнуться к небесам, а крики агонии затопили пространство вокруг.
Боль становилась нестерпимой, по рукам текла черная густая жидкость, пахнущая железом, – кровь, только иная. По пути встречались искореженные, искалеченные трупы таких же, как она, – скрюченные, застывшие, пустые оболочки без права на дыхание. Люди бежали, в воздухе раздавался приближающийся треск. Глефа в немом крике выплеснула боль в небо и побрела обратно, стискивая раны. Голод топил в себе даже боль.
В нее стреляли отовсюду – с земли, с воздуха, даже из моря. Отчаявшись, она хватала машины, балки, людей, швыряла их, кромсала, отбрасывала, крича и вопя, захлебываясь этим криком. Небо вокруг разгоралось жаром, кожа шелушилась и ссыхалась, а чтобы утолить голод, она пропихнула в глотку что-то, что попадало под лапы. Мерзко. Но помогает.
И она ела дальше, давилась, но ела.
Возможно, у самого моря Глефе показалось, что она увидела отсвет серебристых волос и восхищенные происходящим глаза, но толпа текла вокруг быстро, испуганно, крича и мельтеша, так что это могло показаться лишь очередной иллюзией, вроде голубого пятнышка над головой.
Входя в море, она окрашивала соленую воду черным. В спину ей стучала дробь, выбивая последние силы. Горечь в груди разливалась вплоть до самых кончиков пальцев, провалы глаз жгло кислотой, она вся сгорбилась и сжалась, пытаясь стиснуть в себе эту боль. Глефа обернулась на мгновение, охватив взглядом пылающий, павший город, и скрылась в холоде с головой.
Там был покой.
И тишина.
* * *
Сон был долгим и мягким – в тугой пелене было темно и сладко. Куколка цедила капли телесного блаженства, чувствуя, как зудят и заживают раны на теле, как мерно и спокойно бьется сердце – не людское, а исковерканное природой, качающее черную жидкость, затаившее в себе обиду. Помнящее боль и отчуждение, каждый удар, каждое гневное и испуганное слово. Сердце, которое все пыталось затянуть невидимые дыры, но никак не могло этого сделать.
Все это долгое время, засыпая и пробуждаясь, она мучилась лишь одним вопросом: «За что?»…
* * *
Плыть большим, могучим, обтекаемым телом, взрезая воду, было приятно – погружаешь на глубину и уходишь в сплошное спокойствие, выныриваешь, подставляя округлые бока солнечным лучам, ощущаешь тепло на коже. Сказка.
Первое время, помня страшный опыт, они уходили далеко-далеко от берега и резвились в волнах, обдавая друг друга фонтанами и расслабленно балансируя у самой поверхности. Питались рыбой, скрывались от чадящих черным дымом, ободранных и ржавых редких катеров.
Однако все когда-то надоедает и съедается скукой – не выдержав соблазна, они небольшой стайкой подплыли к берегу, к его скалистой стороне, где редко можно было увидеть заблудшего человека. Песок золотило светом, скалы краснели рудой, кое-где чахлые деревца посылали на воду изумрудные блики. Она поплыла на мелководье, издалека увидев в воде босые темные ноги, поднимающие муть резкими движениями стоп. Сородичи испуганно гудели ей вслед, но она не оборачивалась.
Серебристый блеск волос видно было даже не зрением, сколько чем-то старым, давно похороненным в сердце, быстро и сильно качающем черную кровь. Запахло морской солью, выбелившей торчащую из воды скалу, страхом вкупе с человеческой паникой, и дымным жарким воздухом.
Она окунулась в прохладные воды моря, чуть остудившие пыл и упокоившие широким поглаживанием по черной, огромной спине.
– Дальфины! – закричал мужчина, сидящий на камнях, далеко от нависающих скал, у самой кромки, где светлое мелководье с некрупным золотистым песком уходило в чернеющие глубины. Он подставил ладони рупором, усиливая звук, но голос его был негромким и бесцветным. Призывающим, но опустошенным.
Дальфин.
Так она узнала, что стала дальфинихой.
Подплыла, немного опасливо косясь маслинами глаз, но желая поддаться тому всепоглощающе восторженному, одержимому взгляду, когда утлая лодка уносила его все дальше и дальше от черного, тонкого тела. Доверяла этому взгляду.
Дальфиниха подплыла близко, почти касаясь обтекаемым боком худых голых ног с поджатыми бело-серыми пальцами. Он протянул руку и бережно, осторожно коснулся ее глянцевой, гладкой спины, в то время как лицо его оставалось бесстрастным, каменным. Она вытянула голову над поверхностью, моргая влажными глазами, и примолкла, вглядываясь, пытаясь разгадать его загадку.
Теплая человеческая рука гладила черную кожу, окуная пальцы в морскую воду. Его торчащие в разные стороны, седые, светлые волосы стали гораздо короче. Неровно обрезанные, они заметно потускнели, но их слабоватый блеск отражался в черных зрачках дальфинихи, дробясь мелкими камешками света.
Откуда-то со скал доносился слабый дымок костра и жарящегося мяса – дальфины на горизонте опасливо били хвостами по поверхности и фыркали водой, но на вершине людей не было видно, и дальфиниха оставалась у человека, подставляя громоздкую морду под его ладонь.
Молчание не было тягостным или давящим, мужчина был погружен куда-то глубоко в себя, дальфиниха наслаждалась кратким моментом спокойствия. Его рука успокаивала, даровала поддержку и чувство единения, которого ей так не хватало в черных глубинах. Просто быть кому-то нужной, с кем-то связанной общим прошлым и разделять краткие мгновения настоящего. Вот так, в молчании и солнечном свете, соединяясь касаниями. Море мерно и тихо бормотало, убаюкивающе слизывая со скал наросшие буроватые водоросли.
– Эх ты, дальфин, дальфин… Плаваешь себе, таращишь глаза, а вся ваша наука… Все мои исследования… А, к черту! – Он отдернул руку и спрятал лицо в ладонях, раскачиваясь как маятник. Дальфиниха окунула голову, смачивая ссохшиеся глаза, и вновь вынырнула на поверхность, практически укладываясь головой на колени к нему. Мужчина одним глазом, сквозь пальцы, посмотрел на нее и буркнул тихонько:
– А жена моя и сестренка младшая не пережили этой мрыги… Пока я с камерами за вами по всему морю носился, их разорвали глефы… Иронично, правда? – Улыбка тронула его губы, но глаза оставались холодными, а руки начали едва заметно подрагивать. – Стоит ли вся эта наука жизни моей жены, моей сестры? Стоит, наверное, в глобальном смысле, а так – да черт его знает.
Она молчала, только касалась кожей человеческого тепла, пытаясь продлить моменты спокойствия. В его голосе было столько обжигающей боли, что сердце вновь испуганно застучало, но то, как он себя с ней вел, как не боялся и не причинял боли, заставляло ее держаться рядом, надеяться, что это не окончится мгновением.
Он размашистым движением последний раз провел по ее голове, едва ощутимо щелкнул по носу и поднялся на ноги, натягивая на влажную кожу стоптанные кроссовки, и начал выбираться из скал на берег. Перепрыгивая на каждый новый камень, он все больше сутулился, будто придавливаемый грузом возвращения от бесконечной морской глади в обугленные городские руины, все еще хранившие в своих недрах прах и кости. Она плыла за ним, рядом, низко гудя, пытаясь привлечь внимание, пока брюхо не заскребло колючим песком, а солнце не стало прижигать пологую спину. Он карикатурно балансировал, шагая со скалы на скалу, пошатывался и пару раз чуть не свалился в воду, но все же добрался до отвесного склона и начал взбираться на него – худой, костлявый, скрюченный.
На берегу стояли люди – их группки на такой высоте выглядели черными столбиками. Они стояли почти неподвижно, очень тихо перешептываясь, все еще пытаясь поверить в то, что видели пару мгновений назад. Как совершенно сумасшедший мужчина ладонями обнимал огромного дальфина.
Он поднялся на вершину – его подхватывали под руки, помогали забраться, и вот он уже стал одним из пятнышек – черным, едва различимым, вытянутым. Поднявшись, ни разу не обернулся.
Она уходила в море с сородичами, чуть отошедшими к горизонту, испуганно трубящими, но все же не бросающими ее на произвол судьбы. Они плыли медленно и степенно, уходя все глубже и глубже, погружаясь к темному, но такому спокойному дну.
На сердце у дальфинихи было тяжело. Она и сама не знала, почему это грызущее чувство прочно обосновалось в ее нутре, но каждый раз, вспоминая потухшие глаза и жалкую улыбку, ей вновь хотелось выйти на берег, подняться на своих с трудом разгибающихся коленях и сделать пару шагов ему навстречу.
Сама не зная почему.
* * *
Снова темнота, буравящая едва различимое топкое дно, на котором колышутся большие, полупрозрачные, заполненные студнем яйца. Стоят близко-близко друг к другу, прижавшись выпуклыми боками, будто хотят согреться. Огромные тонкие черные глефы вот-вот разорвут оболочку и вынырнут в первый раз, увидев над головой россыпи звезд и чадящий город неподалеку.
Счастливые.
Сколько у них еще впереди.
Она проплыла над ними, огромная, неповоротливая, громоздкая, и задумалась на мгновение – смотрит ли кто-то на нее сейчас, в темноте, полуслепыми глазами сквозь тонкие веки? Как когда-то она, свернувшись в тугой клубочек, провожала взглядом неясную тень гигантского материнского тела, плывущего сквозь ледяные воды?
Она и не заметила, как выплыла на поверхность – там едва-едва зарождался рассвет, и робкое солнце вышелушивало из темных волн всю стужу, лаская багрянцем линию горизонта. Дальфиниха подпрыгнула, купаясь в робком свете, чувствуя, что осталось недолго. Ее жизнь подходила к концу, и ей хотелось взять от этого мира всю его свежесть и весь этот цвет. Все тепло.
Резвясь в волнах, она слишком близко подплыла к берегу, и слишком поздно заметила замершего на небольшом возвышении мужчину, приложившего ладонь козырьком ко лбу, прикрывая глаза от солнца. Он крепко стоял на земле, широко расставив ноги, выпрямив спину и выставив первым лучам широкий живот. Он заметно округлился за почти двадцать лет, и в первое время она его даже не узнала за этими торчащими щеками, широкими руками и всей фигурой – он стал более статным, спокойным в движениях и позе.
Она прыгнула прямо перед ним, кувыркнувшись в воздухе, как самый обычный дельфин, подставив брюхо теплу, выгибаясь и показывая – я тоже не просто так провела все это время, видишь. Может, ей показалось, но он улыбнулся – широкая ухмылка спокойно, как влитая, легла на лицо.
Из разномастной палатки на вершине вынырнули две девчушки, лет по семнадцать, с заплетенными косами, хохочущие, быстрые, тоненькие. Они подлетели к нему и повисли на шее, тесно прижимаясь, ощущая надвигающий апокалипсис, испуганные, но искренне любящие. Увидев дальфиниху, испугались, спрятались за спину, а он объяснял им что-то тихо, неторопливо, спокойно.
Девчушки с интересом разглядывали ее огромную тушу, и она отвечала им тем же.
Дальфиниха вынырнула у самого берега, задирая морду, прощаясь с его дочерьми, с миром вокруг, с ним. Он был первым, кого она увидела, – молодой двадцатилетний парнишка, юный, самонадеянный, верящий в бесконечную пользу науки, уже успевший обрести огромную любовь и поклясться в вечной преданности, обрести надежду и потерять ее в тот же миг. Он же стал и последним, кто встретится ей в этой жизни – сорокалетний мужчина, уверенный в себе, довольный жизнью, сделавший свой выбор и считающий его единственно верным. Главное, что теперь он четко знал, чего хочет в жизни и за что будет бороться.
Семья. Он обрел себя в ней и искренне был в ней счастлив.
Он кивнул ее мыслям, обнимая дочерей за плечи, и направился к палатке. А она вновь поплыла в глубину, ощущая смутную радость от того, что жизнь теперь его полна смысла. И этот, в целом совершенно незнакомый ей человек был очень дорог ей, может потому, что встречался в самые важные моменты, которые навсегда отпечатались в ее нутре.
Дальфиниха плыла и плыла прямо в солнце, которое выглядело лишь пятнышком на ненатуральном, почти картонном небосводе, вспоминая широкую мужскую фигуру, и перед глазами ее возникала сама собой надпись: «Новый цикл – новая жизнь». Она вспоминала. Затертый плакат в почтовом ящике в подъезде, где пахло кошками и борщом, крошечные сандалики, шелест листвы в парке после полудня, жаркое солнце на пляже, где песок забивается даже в самую душу. Вспомнила горячий воздух, удушливый жар, земную тряску и огромную волну.
А потом вспомнила черноту, и прохладу яйца, и первый вдох кислорода, и небольшой ободранный катер, качающийся на волнах.
Она прощалась с миром и плыла все вперед и вперед, далеко-далеко, где не кружат чайки, не плавают пакеты и не слышен людской гул. Плыла, а мир вокруг нее все светлел и светлел, теряя сумеречные тона. Колкая боль в душе растворялась талыми лужицами, принимая в себя спокойствие и гармонию перед скорой встречей со смертью. Прощая.
Над городом в последний раз в этом цикле поднималось солнце.