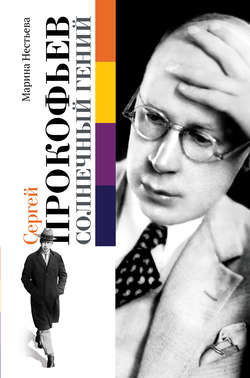Читать книгу Сергей Прокофьев. Солнечный гений - Марина Нестьева - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава вторая
Mузыкальные университеты
Становление
ОглавлениеМожно возразить: разве становление Прокофьева как творческой личности, а это, разумеется, должно интересовать нас в первую очередь, началось не значительно раньше? Его ведь, по правде говоря, можно смело назвать вундеркиндом. Правильно, хотя исключительно мудрые и проницательные родители, скорее всего, боялись воспринимать своего первенца как особенного, стараясь ни в чем ему не навредить, воспитывая его в строгости, избегая культа и завышенных амбиций. Кроме того, им никогда даже не приходило в голову зарабатывать на гениальном сыне, эксплуатировать его талант материально. Они сделали все возможное и даже невозможное для гармоничного развития личности сына.
Однако предстоящее новое положение студента – принципиальный шаг вперед. И потому, что отныне молодой человек вошел в исключительно профессиональную среду, и потому, что он получил возможность общественно утвердить собственную индивидуальность. Наконец, переезд в большой город из маленькой глухой Сонцовки – тоже скачок на жизненном пути.
Это был не просто большой город. Петербург. Столица, которая манила и интриговала, отпугивала и завлекала одновременно. Город, полный несовместимых идей и безумных контрастов. Завораживающий изумительной по красоте архитектурой и раздавливающий имперским величием. Город тайных заговоров, мистических озарений, прекрасных и жутких белых ночей и одиноких поэтических мечтаний. Впечатления не успевали за событиями – гремели славой театры Петербурга, сверкали звезды оперы, балета, драмы; слепила глаза пестрота и разнообразие художественных направлений; притягивали умы знаменитые гастролеры. В такой город попал в 1904 году Сережа Прокофьев, которому отныне и до конца дней придется отстаивать свою индивидуальность среди метущихся противоречий окружающей жизни.
«Высокий подвижный мальчик, ярко выраженный блондин с живыми глазами, с хорошим цветом лица, с яркими крупными губами, очень аккуратно одетый и аккуратно подстриженный. Держался он с достоинством» – таким увидела подростка Прокофьева Вера Алперс, соученица по консерватории, многолетняя его приятельница (18; с. 234). Таким он предстал при поступлении в консерваторию перед авторитетной комиссией на самом ответственном экзамене по специальной теории.
Претендентов – человек двадцать, все – старше нашего героя. Но именно он принес больше всего сочинений, написанных за последний год, – в одной папке, в иные годы – в другой. Переплетенную тетрадь с двадцатью четырьмя «песенками» юноша нес отдельно, они в папки не поместились.
Из экзаменаторов было человек десять, в том числе признанные мэтры отечественной композиторской школы Александр Константинович Глазунов, Николай Андреевич Римский-Корсаков и Анатолий Константинович Лядов. Экзамен Прокофьев выдержал с блеском. Он чувствовал себя весьма уверенно, хотя спрашивали основательно. Играл на рояле музыку знакомую и незнакомую, демонстрировал свой абсолютный слух и знание гармонии и даже читал партитуру. Наконец, показывал авторитетной комиссии свои собственные сочинения – фрагменты из оперы «Пир во время чумы» и Vivo для фортепиано. Решение, разумеется, в его пользу – тринадцати лет от роду Прокофьев принят в Петербургскую консерваторию.
Сергею, привыкшему к определенному жизненному устройству, вначале было очень нелегко. Обстановка вокруг резко отличалась от сонцовской идиллии, и осваивался он в ней непросто.
Репутация у петербургской консерватории легендарная. Именно здесь заложены основы композиторской и исполнительской школ, которым в ХХ веке суждено сыграть опеределяющую роль в мировой музыкальной культуре. Однако консерватория начала века – явление противоречивое, стоящее на пороге той ломки, которую скоро предстоит пережить всем общественным институциям. С одной стороны, цвет профессуры, гордость отечественного искусства, те самые композиторы, которые дали путевку в профессиональную жизнь молодому Прокофьеву – Римский-Корсаков, Лядов, Глазунов, а также пианистка Анна Есипова, скрипач Леопольд Ауэр, в классы которых со всего мира съезжались юные и честолюбивые таланты. Этих великих музыкантских имен достаточно, чтобы обозначить уровень окружения Прокофьева.
С другой стороны, до непосредственного влияния маститого композитора или артиста еще надо было добраться «сквозь серенькие будни», как писал соученик Прокофьева, его друг, ставший впоследствии академиком, Борис Владимирович Асафьев. И подытоживал – господствующая казенная бюрократическая атмосфера, насаждающаяся тогдашним директором консерватории (до 1905 года), человеком реакционных взглядов органистом по специальности А. Бернгардом, приводила к тому, что «мысль съеживалась», главным образом следовало «выслушивать и выполнять» (7; с. 32).
Прокофьеву, имеющему нрав прямой и честный, смелый в отстаивании своей точки зрения и иногда даже доходящей до дерзости, такая обстановка была и вовсе невмоготу. Иногда, по свидетельству одного из профессоров, из чувства противоречия он ходил по коридорам консерватории «напрямик», никому не уступая дороги, за что его прозвали «мотором». Это «напрямик» да еще, конечно, отсутствие опыта не позволили ему в полной мере воспользоваться возможностями, открывающимися ему в классах Лядова и Римского-Корсакова. Правда, кое-что могло послужить молодому человеку оправданием.
Конечно, Лядов, в класс которого Сергея определили, обладал как музыкант отменным профессионализмом и безупречным вкусом. Казалось , он и как композитор был Прокофьеву близок – не только своей музыкой, но и взглядами «Я страшно болен жаждою новизны и необыкновенного…», «…Я очень радуюсь, что нарождаются новые люди с «новыми» мыслями. Так старое надоело!» (12; с. 26). Не правда ли, Прокофьев мог бы подписаться под этими содержащимися в письмах Лядова мыслями? Но, как известно, совсем необязательно крупный художник автоматически становится хорошим педагогом. Высказанные теоретически мысли – одно. Ученики же воспринимали учителя совсем другим – усталым и безразличным. Прозорливо изобразил его на портрете художник Илья Репин, всегда видевший натуру «вглубь»: за маской равнодушия и скепсиса искрится вдруг загорающаяся активная мысль.
Лядов сам ненавидел педагогическую работу. О каком творческом подходе, так необходимом юному Прокофьеву, могла идти речь! Среди учеников класса Лядова он – самый младший. Рядом – самый старший, которому минуло тридцать лет и у которого двое детей. Занятия своенравному подростку не нравились, отталкивали сухостью и скукой, к тому же нерегулярностью. Равнодушно-ленивое отношение педагога к урокам передавалось ученикам. Однако подросток все же сумел оценить отличный острый глаз Лядова, способность немедленно видеть все ошибки и отмечать их, впрочем, ничего не объясняя. Учитель сердился, когда работа была написана грязно или неряшливо, его постоянные уколы и насмешки вытравливали всякое желание заниматься.
Да, Лядов-педагог был юному композитору не по душе. Но помог ему выработать чистоту и логику голосоведения, научил каллиграфической аккуратности записи. Хотя, как казалось в то время Прокофьеву, его сочинительские опыты и правила, которым учил преподаватель гармонии, а позже и контрапункта, никак не соприкасались. Юноша не сумел тогда оценить крупного музыканта Лядова в полном объеме, и, прежде всего, как композитора. Тем не менее, кто знает, может быть острота музыкальных зарисовок, меткость оркестровых характеристик, любовь рассказывать жизненные сказки, чистота утренней лирики – не от Лядова ли композитора отталкивался Прокофьев, конечно, преломляя это глубоко своеобразно в своем творчестве?..
Сложность вхождения Сергея в консерваторскую жизнь его мать, Мария Григорьевна, старалась всячески компенсировать. Она создает сыну климат максимального благоприятствования. Прокофьевы снимают квартиру неподалеку от консерватории, на Садовой улице, около церкви Покрова Пресвятой Богородицы. У Сережи отдельная комната с большим письменным столом, где он и занимается, и продолжает играть в свои любимые занимательные «умные» игры. Досуг они часто проводят вместе, с жадным интересом посещают достопримечательности Петербурга, любуются ансамблями его пригородов. Случаются и мальчишеские шалости. Внешний вид солидного Глазунова, а именно, его полнота, поражает воображение Сережи, и он засовывает большую подушку под пальто и так идет в лавку. За спиной слышил жалостливую реплику: «Смотрите, какой бедный мальчик – лицо худенькое, а сам какой болезненно толстый» (25; с. 172). Восторгам озорника нет предела.
Исправно посещали мать с сыном живущих в Петербурге родственников Раевских, у которых по воскресеньям собиралась вся родня. Между делом, кузина Катя учит молодого человека хорошим манерам: как во время еды помогать себе на тарелке корочкой хлеба; за столом можно разговаривать, но не громко, чтобы не мешать старшим; если в комнату вошла дама, надо встать и т.п.
Испытание на прочность семья Прокофьевых проходит в высшей степени достойно. Хотя Сергей Алексеевич остается жить и работать в Сонцовке, все члены семьи не только постоянно переписываются и делятся друг с другом всеми и важными, и незначительными новостями, но делают все возможное, чтобы видеться как можно чаще и подольше, причем не только летом в Сонцовке. У Марии Григорьевны по-прежнему преданный и верный муж – друг, у Сережи – отец, с которым его связывает глубокая любовь и который, как и раньше, продолжает внимательно следить за развитием мальчика. Вот образец письма матери отцу, который подтверждает теплоту отношений в семье: «День именин я провела очень оживленно. Утром я пошла и купила себе от твоего имени четыре горшочка живых цветов… мы пили шоколад, подаренный тобою… Пили за твое здоровье и много раз тебя вспоминали, чокаясь, кричали тебе “ура”, не знаю, слышал ли ты!..» (25; с. 254).
К пятнадцати годам некоторые противоречия в музыкальном обучении Прокофьева остались.
Любопытно, как дилемма: отношение к композитору – и педагогу решалась юношей применительно к Римскому-Корсакову, преподававшему ему оркестровку.
На уроках Римского-Корсакова собиралось слишком много народу; они длились чересчур долго – три-четыре часа подряд; внимание рассеивалось, сосредоточиться было трудно – пользы оказывалось мало. Некоторые работы Сергей делал даже с отвращением, но отдельные реплики учителя его интриговали, в частности: «У композитора должен быть голос в семь октав» (25; с. 283). Учитель в свою очередь был не очень доволен достижениями ученика. В итоге годовая оценка – 4. Впоследствии Прокофьев с сожалением вспоминал: «Искренне любя Римского-Корсакова, я все же не сумел тогда воспользоваться блестящими познаниями, которые он излучал» (25; с. 382).
Зато Римский-Корсаков как композитор интересовал Прокофьева донельзя и безоговорочно. Он даже в поздние консерваторские годы предполагал выступить в одном из вечеров солистом в Концерте Римского-Корсакова для фортепиано с оркестром.
Сергея привлекали многие произведения маститого автора. Но более всего поразило воображение «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», премьера которого состоялась в Мариинском театре в феврале 1907 года. Юноша посетил спектакль несчетное число раз, один и с родственниками, он жадно следил за гармоническими и ритмическими перипетиями этой блестящей партитуры. Симфоническая картина «Сечи при Керженце» казалась вообще лучшим, что создал Римский-Корсаков. Его необычайно вдохновил знаменитейший драматический тенор И. Ершов, с истинным артистическим темпераментом исполнивший партию заблудшего Гришки Кутерьмы. Впечатлило и декорационное оформление не менее знаменитых художников Аполлинария Васнецова и Константина Коровина, творящее, наряду с музыкой, таинственную атмосферу этого захватывающего действия, особенно чудесные диковинные цветы, вырастающие в глухом лесу. Эти уроки пригодились Прокофьеву в будущем. В подготовке своих музыкально-театральных опусов он всегда выступал как истинный профессионал, разбираясь и в сценографической части спектакля, и в области актерского мастерства.
Петербург начала века был богат интересными концертами и спектаклями. Прокофьев часто брал партитуры в библиотеке нотного издательства Беляева и, по рекомендации Глиэра, с которым он продолжал интенсивно переписываться, сначала просматривал их дома, потом следил по ним на репетиции, а на концерте Рейнгольд Морицевич уже советовал не отвлекаться от непосредственного слушания музыки. Лишь за два месяца молодой композитор услышал в концертах и, как он вспоминал, одобрил Третью и Восьмую симфонии Бетховена, Вторую Шумана, Шестую Глазунова, Второй концерт Рахманинова, «Ромео и Джульетту» Чайковского, «Ученик Чародея» Дюка, сюиту Баха. Впервые познакомился с музыкой Вагнера, который, правда, по-настоящему увлек его позже, но достойное концертное исполнение «Нюрнбергских мейстерзингеров» оставило след. Конечно, все эти посещения были для формирующегося музыканта неоценимой школой мастерства.
Развивался Прокофьев невиданными темпами, неизменно преодолевая препятствия, которых было достаточно много на его пути. Скажем, занимаясь с Александром Винклером, добросовестным, но малодаровитым педагогом, сначала по обязательному фортепиано, а потом по специальному, молодой пианист все же ухитрился извлечь из этих занятий немалую пользу: «Наконец-то на меня наложили узду: до сих пор я играл все, что угодно, но все в достаточной степени небрежно и пальцы держал прямо, как палки; Винклер потребовал, чтобы я играл аккуратней, пальцы держал округло и ставил с точностью» (25; с. 237). Исчерпывающий диагноз!
Когда выяснилось, что общеобразовательные предметы ведутся в консерватории плохо и к тому же совпадают с музыкальными, Мария Григорьевна организовала занятия на дому с тем, чтобы за определенный период сын сдавал экзамены. Неудобство обратилось в преимущество – общее образование Прокофьев получил на порядок выше обучающихся в консерватории. Отец продолжал и издали, и вблизи, на каникулах в Сонцовке, расширять кругозор сына – пришла пора ему читать книги для взрослых: Толстого, Гоголя, Тургенева, Данилевского. Реакции, правда, иногда были забавными: привыкший все систематизировать и осмыслять мальчик ставил классикам оценки по пятибалльной системе: «Война и мир» и «Дворянское гнездо» получило пять, «Мертвые души» – пять с минусом, «Тарас Бульба» и «Вий» по четверке, «Старосветские помещики» – тройку, «Герой нашего времени» Лермонтова – пятерку. Большими симпатиями пользовались романы Сенкевича. Конечно, метод вызывал улыбку. Но отказать юному Прокофьеву во внимательном чтении и склонности к анализу никак нельзя.
Похожее происходило и в классах Лядова. Стоя наготове с тетрадкой в руках, своенравный Сергей скрупулезно записывал огрехи товарищей, что подчас вызывало у них естественный протест.
Мужал Прокофьев и как человек, гражданин. События 1905 года всколыхнули, взбудоражили находящуюся в полудреме консерваторию. Ее охватили студенческие волнения. Молодежь объявила забастовку, требуя изменения консерваторских порядков – снижения платы за обучение, организации оперной студии, библиотеки, повышения уровня преподавания общеобразовательных предметов, устранения инспекторского надзора, наконец, более достойного обращения со студентами некоторых профессоров.
Знаменитое представление силами учеников «Кащея бессмертного» Римского-Корсакова вылилось в политическую демонстрацию. Сам мэтр поддержал требования учащихся, за что был исключен из преподавательского состава. Возник всероссийский скандал, консерваторию, вслед за Н.А. Римским-Корсаковым, покинули А.К. Глазунов и А.К. Лядов, Ф.М. Блуменфельд и А.Н. Есипова и другие известные профессора.
Даже у весьма далекого от политических потрясений Сережи в те дни возникло чувство солидарности с соучениками, и он поставил (правда, с согласия мамы) свою подпись под письмом студентов, не желающих оставаться в стенах консерватории после случившегося – как никак первый политический протест.
К весне 1906 года жизнь постепенно вошла в свою колею. Римский-Корсаков, Лядов и Глазунов, теперь возглавивший консерваторию, вернулись в нее, то же сделали и другие профессора.
События 1905 года не могли оставить подростка-Прокофьева равнодушным. Они укрепили то, что ему дала природа, – чувство независимости и справедливости, остроту мышлений и суждений, неверие в незыблемые авторитеты, умение защищать свою точку зрения.
Ее величество Музыка между тем царствовала в его голове и сердце. Он слышал ее всегда и везде, каждый звук для него оборачивался подчас музыкой. Вот характерная зарисовка из жизни. Рано утром юный музыкант шествует по пустынной улице на репетицию какого-то концерта, звонко отстукивая каблуками. Из переулка показывается полковник. Некоторое время они идут в ногу: топ-топ-топ,– провозглашают каблуки Сергея. Дзинь-дзинь-дзинь, – вторят ему шпоры полковника. Вскоре равномерность надоедает юноше, и он задерживается на полшага, чтобы образовать синкопу с ходом полковника и действительно попадает как раз посредине его позвякиваний. Полковник, заметив неполадки, выравнивается. Дзинь вновь совпадает с топ. Прокофьев опять выстраивает синкопу. И так до тех пор, пока раздраженный полковник не покидает «поле ритмической битвы».
Судьба продолжала улыбаться Прокофьеву. В конце 1906 года в классе у Лядова он встретил музыканта, композитора и человека, с которым его связала глубокая дружба на протяжении почти всей жизни обоих. Это Николай Яковлевич Мясковский. Их отношения заслуживают особого разговора и места. Здесь же скажу только, что этих двух музыкантов, с десятилетней разницей в возрасте, во многом противоположных по характеру, происхождению и условиям жизни, сблизила прежде всего беззаветная любовь к музыке. Они переиграли в четыре руки бесчисленное число произведений, сыграли, в частности, Вторую и Девятую симфонии Бетховена, Пятую Глазунова, «Шехеразаду» Римского-Корсакова. Музицировали, как вспоминал Прокофьев, «запойно», много спорили, обсуждали сыгранное. В домашних «игрищах» принимали участие и соученики Прокофьева и Мясковского – пианист, ученик Есиповой, Борис Захаров, а также Б. Асафьев и Л. Саминский. Все четверо устраивали своеобразные конкурсы: то придумывали романс на одинаковый текст («Маститые ветвистые дубы, стихи Майкова), то пытались вчетвером сочинить скрипичную сонату, то пробовали написать серию фортепианных миниатюр, изображающих зимний пейзаж (Мясковский нарисовал «пренеприятную вьюгу», Прокофьев – «мягкий ласковый снежок, падающий большими хлопьями»; из последнего опыта потом родится его пьеска «Снежок») (7; с. 41). Это были как бы вторые университеты для молодого Прокофьева. Асафьев, окончивший уже Петербургский университет, замечательно образованный и пытливый, прекрасно разбирался и в литературе, и в живописи, обнаружил, кроме всего, незаурядный талант к музыкальному писательству. И он, и Мясковский уже тогда и на протяжении дальнейшего творческого пути Сергея – верные его друзья и доброжелатели, впрочем, и нелицеприятные критики.
Активные поиски своего пути приводили друзей к разной музыке. Молодой модный немец Рихард Штраус, который приобрел скандальную известность своей оперой «Саломея» по Оскару Уайльду, решительно не нравился, его соотечественник Макс Регер, наоборот, заинтересовывал гармоническими и ладовыми новшествами. Очень увлек москвич Александр Скрябин – масштабностью замыслов, дерзновенной необычностью гармоний и формы. «Поэму экстаза» они с Мясковским величали не иначе, как «гениальная вещь!»
Огромное воздействие в те годы оказал Вагнер, особенно тетралогия «Кольцо нибелунга», поставленная в Мариинском театре. Прокофьев не пропускал репетиций, внимательно изучал ноты, посещал спектакли по многу раз: «Я любил и “Валькирию”, и “Гибель богов”. В “Зигфриде” обожал ковку меча; эта сцена представлялась мне очень оперной. Особенно мне нравилось, когда в “Гибели богов” Зигфрид едет по Рейну под звуки рогов и выкрики с берега: этот лихой, растрепанный вихрь действовал на меня захватывающе» (25; 377—378).
И все же больше всего молодого композитора тянуло к совсем новому неизведанному миру звуков. Наконец-то он смог удовлетворить свой интерес в начале 1908 года на «Вечерах современной музыки», куда был приглашен вместе с Мясковским. То был период расцвета кружка энтузиастов, возглавляемых В.Г. Каратыгиным, музыкантом с редкой интуицией и отменным вкусом, которые активно способствовали распространению в России новой западной музыки, главным образом французской, а также молодых русских авторов. Несомненная заслуга «Вечеров» – первое исполнение в России произведений Дебюсси и Равеля, Дюка, Шоссона, Шенберга и других авторов этого круга. Совместная деятельность просвещенных любителей музыки (В.Ф. Нувель и А.П. Нурок – оба чиновники) и профессионалов дала свои плоды. Члены кружка тянулись к новому, были свободны от предвзятости и не щадили самых высоких авторитетов. Именно «современники» организовали первые исполнения молодых русских музыкантов – Стравинского, Мясковского и Прокофьева. Правда, кое-что раздражало молодого человека в его новых знакомых – смущали откровенно эротические сюжеты гравюр, развешенные в квартире А.Нурока, предложенный им же сценарий балетной пантомимы, который Прокофьев оценил как «полуприличный винегрет». Словом, интерес интересом, а здоровое сонцовское воспитание сопротивлялось изнеженно капризной декадентской позе.
Несмотря на обострившиеся разлады с Лядовым и своего рода «двойную игру» – одни работы выполняются «для Лядова», другие, менее традиционные, – «для себя». Вкус к новому, жажда познать прежде неизведанное счастливо привели его в класс Николая Николаевича Черепнина, который среди профессуры слыл модернистом. Он был тесно связан с деятелями «Мира искусства» (художник Александр Бенуа, брат жены композитора, оформлял постановки его балетов). В собственном творчестве, в частности балетном, Черепнин шел по пути французского импрессионизма. Кто, как не он, мог оценить тогдашние новаторские устремления молодого Прокофьева. «Среди моих преподавателей Черепнин был самый живой и интересный музыкант… который мог одинаково интересно и любовно говорить как о старой музыке, так и о самой новой…Польза от соприкосновения с ним была огромная» (25; с. 338 и 27; с. 142). У него Прокофьев учился чтению партитур, затем – дирижированию; он же выдавал своим студентам контрамарки на симфонические концерты. Недооценив по молодости лет уроки инструментовки у Римского-Корсакова, молодой композитор наверстывал упущенное в классах Черепнина. Порой наставничество учителя заставляло изменять мнения, или еще пуще – общие взгляды. Так было, в частности, с Брамсом, которого Прокофьев знал и ценил прежде мало. «Поймите, – говорил Николай Николаевич, – это абсолютно чистая музыка. Ее нельзя развинчивать по винтикам и затем рассматривать, хорош ли каждый из них; но надо понять, что это музыка кристальной чистоты и льется как чудный родник» (25; с. 412). Так Прокофьев впоследствии и воспринимал эту музыку как чистый родник. Интересовали Сергея нестандартные подходы учителя к «Евгению Онегину» Чайковского или к гоголевской «Ночи перед Рождеством», за сюжет которой, как известно, взялись два гиганта – Римский-Корсаков и Чайковский. Вот вывод Черепнина: «Получилось, что все фантастические места вышли у него (Римского-Корсакова. – Прим. авт.) интересней, а в лирических местах все же у Чайковского теплее» (25; с. 295). Вывод краткий, но точный, трудно возразить…
Позже Прокофьев вспоминал, что именно Черепнин привил ему вкус к партитурам Гайдна и Моцарта, к гобою, играющему стаккато, короче, получается, что в большой мере он привел композитора к его самому знаменитому из симфонических первенцев – Классической симфонии.
Продолжались и немузыкальные интересы юного Прокофьева. Всю жизнь он страстно любил шахматы и никогда с этой страстью не расставался. Оценить уровень его шахматных талантов можно по тому факту, что в 1909 году на сеансе одновременной игры он сделал ничью в партии с прославленным шахматистом Ласкером, чем, разумеется, всегда очень гордился.
В тот период у чрезвычайно наивного Прокофьева стал пробуждаться интерес к противоположному полу, тем более что девушек в консерватории было множество. Он посещал вечеринки и даже бал, учился, хотя без особых результатов, танцевать, пользовался у соучениц неизменным успехом. Полистаем характерный отрывок из дневника его сокурсницы Веры Алперс 1908 года: «Прокофьев вошел в моду. На репетиции одного из концертов он обратил внимание на мои длинные пальцы, взял мою руку, стал рассматривать и сказал, что у меня красивая рука, чем меня сконфузил, и, когда увидел, что я покраснела, сам смутился… Мы как-то разговаривали о консерваторках, он младшую Эше назвал “мартышкой”, Бессонову “вертушкой”, Ксюшу “злою, как кошка”. …Вообще я не понимаю, отчего я ему симпатизирую: во-первых, он страшный эгоист; во-вторых, вообще в нем много несимпатичных черт, но… вместе с тем…» (25; с. 426).
Сильно расширилась география его поездок в летние каникулы – он был в Минеральных Водах, в Сухуме, Теберде, Крыму, Финляндии. Любил с друзьями – вновь обретенным близким другом пианистом Максом Шмитгофом и Верой Алперс прогулки по улицам и набережным Петербурга и его окрестностям. Подросток, да еще такой колючий, стал стесняться своей любви к Сонцовке. В письмах к друзьям не может удержаться от описания дивных майских ночей с ярким белым месяцем, но сетует на «орущих соловьев» и «целый хор лягушек».
Пришло время публичного знакомства петербургской общественности с молодым автором. 31 декабря 1908 года на «Вечере современной музыки» состоялось его первое выступление – уже не только для родных и для консерваторцев. В афише значилось: «Пьески для фортепиано». Самый благожелательный отзыв, напечатанный в «Слове», подписан Н. Сем. Отзыв весьма содержателен и стоит того, чтобы его пространно процитировать как образец понимающей и проницательной критики: «Крупный и несомненный талант сквозит во всех причудах этой богатой творческой фантазии, талант еще неуравновешенный, еще отдающийся каждому порыву, увлекающийся экстравагантными звуковыми сочетаниями… Искренность, отсутствие выдуманности, преднамеренного искания гармонически-необыкновенного и действительно выдающийся талант сказываются в логическом развитии мысли, формы и содержания. Громадная сила фантазии, изобретательность дают автору избыток творческого материала» (25; с. 417).
Этот же год ознаменовался исполнением первого оркестрового опуса. Не без настырности и упорства юноши («свыше пятнадцати набегов» совершил он на директора Глазунова, стараясь получить разрешение на исполнение) его ранняя симфония была сыграна под управлением Гуго Варлиха на закрытой репетиции. Рукопись не сохранилась. Сохранилось скептическое замечание самого Прокофьева: «Впечатление осталось мутное» и благожелательный отзыв его старшего товарища Мясковского: «Свежо, замечательное Andante» (7; с. 48 и 49).
Эстетические установки дерзкого юноши-новатора и его педагогов по консерватории расходились все больше и больше. Достаточно сказать, что профессор по классу форм, латышский композитор Иосиф Иванович Витоль, дал ему при окончании консерватории по сочинению такую характеристику: «Новатор до самых резких крайностей с довольно односторонне развитой техникой» (7; с. 57). Прокофьев представил фортепианную сонату и финальную сцену из оперы «Пир во время чумы». Экзаменующие оказались недовольны и умеющими сочинять выпускниками, и не умеющими. Свое отношение выразили уравниловкой, и всем, в том числе Прокофьеву, поставили четверку. Однако диплом и звание «свободного художника» было получено.
Что же можно считать наиболее серьезными композиторскими достижениями в активе новоявленного выпускника консерваторского класса ? Более всего то, что дало ростки в дальнейшем и зацвело пышным цветом в творчестве зрелого Прокофьева.
Пригодились уроки, полученные от пристального изучения музыки Римского-Корсакова и Вагнера. Не удовлетворенный имеющимся материалом оперы «Ундина», композитор многое переделал. Он теперь более уверенно овладел лейтмотивной техникой, вокальной декламацией.
Увлечение Скрябиным и Рахманиновым сказалось в симфонической картине «Сны» и в эскизе «Осеннее». Про последнее Прокофьев признавался Мясковскому: «Критики писали о мелком дожде, опадающих листьях… но ни один не догадался, что тут мир внутренний, а не внешний, и что такое “Осеннее” может быть и весной, и летом» (7; с. 63).
Довольно пестрыми по стилю оказались шесть фортепианных сонат, которые композитор сочинил на двух последних курсах. В последующие годы Прокофьев не раз возвращался к дорогим его сердцу «старым тетрадям», чтобы вдохновиться каким-либо музыкальным мотивом, «запрятанным» там. Конечно, в начальных опусах было немало подражательного, что не миновало ни одного великого художника. Однако своеобразие, образные приоритеты проявились уже здесь, в частности в страницах сказочно-повествовательных, изящно-танцевальных, лирически-задушевных. Тогда его увлекали «варваризмы», музыка стихийная, сметающая как ураган, нервно-экспрессивная.Также проявлял себя юмор – иногда мягкий, чаще же жесткий, саркастический, гротесковый. Вот как характеризовал новоявленного «свободного художника» его старый учитель Рейнгольд Глиэр, встретившийся с ним весной 1909 года: «Сережа… выглядел уже совсем взрослым. Он приобрел большую уверенность в себе, его суждения о современной музыке отличались нарочитой “левизной”; казалось, он был готов развенчать любой общепризнанный авторитет. Тем не менее мы расстались друзьями» (7; с. 58).