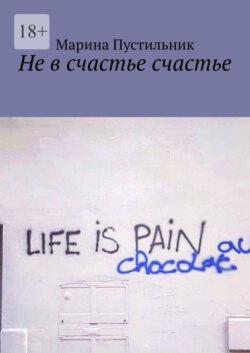Читать книгу Не в счастье счастье - Марина Пустильник - Страница 15
Глава 1. Что такое счастье?
Русское счастье
ОглавлениеХотя большей частью мы причисляем себя к европейской культурной традиции (а есть и те, кто обращают свои взгляды в поисках мудрости на Восток), у человека, живущего в России, есть и свой культурный код, прописанный многими поколениями, возможно, незаметный для нас самих. Он влияет на наше восприятие концепции счастья – но как именно?
Первое, что хочется отметить, это то, что слово счастье (происходящее от праславянского *sъčęstьje, где *sъ – «хороший» и *čęstь – «часть») можно интерпретировать по-разному. Современные специалисты трактуют это словоформу как обозначающую «хороший удел», но можно в ней увидеть и нечто другое, со-участие. То есть можно поспорить, что в нашем культурном коде заложено понимание счастья, как чего-то, завязанного на участие других, на связь с другими людьми (почему это важно, я ещё обязательно расскажу).
Второе, это то, что исследователи русского мировоззрения отмечают в нем особенность, называемую бинарными противоположностями, которые выступают как некие крайности любого акта оценки. Более того, можно пойти дальше и сказать, что в культурной традиции России вообще очень мало чего-то «среднего», чего-то умеренного, чего-то относительного. Нет, мы говорим «всё или ничего», «пан или пропал». Поэтому сейчас счастье зачастую трактуется либо как «успешный успех», либо как «состояние эйфории» – что опять же является некими крайностями. А то, что счастье можно находить в полутонах, противоречит всей нашей натуре.
Третье, это то, что значение слова «счастье», если отследить его по толковым словарям за последние полтора-два столетия, трансформировалось. И если в дореволюционной России (согласно словарю Даля), счастье трактовалось как «судьба» или «участь», то в советские времена это слово стало означать «состояние удовлетворенности», «полную удовлетворенность» (Большой академический словарь). Значение, которое для Даля было основным («участь», «доля»), переместилось в этих словарных статьях на последнее место, где оно определено как простонародное. В постсоветский период счастье также трактуется как «чувство и состояние полного удовлетворения», но также и как «успех, удача», а ещё и «везение» («Толковый словарь с включением сведений о происхождении слов» под редакцией Н. Ю. Шведовой).
Четвертое и самое, пожалуй, интересное. Возвращаясь к бинарным противоположностям, мы с легкостью можем дать определение тому, что такое «несчастье» – это беда/неудача, болезнь, страдание. Но с такой же легкостью дать определение счастью мы не можем, хотя если определять его как противоположность «несчастью», то можно было бы сказать, что здоровье, удача и радость существования и делают человека счастливым. Но почему-то не делают. Потому что не может же счастье быть чем-то таким простым и доступным, должно же быть что-то более возвышенное. (И здесь самое время упомянуть про православный след. Что такое счастье в православной традиции? А примерно то же самое, что и в раннехристианской – блаженство единения с Богом, духовное переживание. То самое «возвышенное». ) Счастье в русской традиции – это вообще такая жар-птица, за которой можно бегать всю жизнь, но так и не ухватить за хвост.
И понятно, что на дворе XXI век, последние 30 лет мы строили общество потребления (с его взглядами на счастье), и мем «Россия для грустных» – это только мем. Но точно также как есть родовые травмы, которые передаются не всегда очевидными для нас путями, незаметно для себя мы вырастаем с определенным культурным багажом. Какие-то вещи сидят глубоко на подкорке и влияют на нас. Это ни в коем случае не приговор. Жить в России (или быть из России и жить где-либо еще) и быть счастливым – возможно. Для этого (как я постараюсь показать в следующей главе) вообще не нужно ничего, кроме смены оптики. Но менять оптику проще, когда ты понимаешь, какой культурный код в тебе прописан, и какие там могут быть баги.