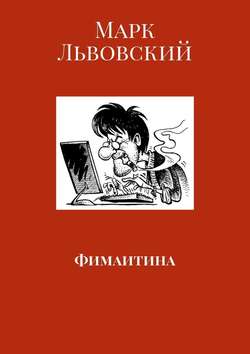Читать книгу Фимаитина - Марк Львовский - Страница 12
История жизни двух евреев – Фимы и Тины
Повесть в двух частях
Часть первая
– 8 —
ОглавлениеОдним из самых дорогих, но, увы, редких гостей сойферовских семинаров был поэт Семён Израилевич Липкин, всегда сопровождаемой женой – поэтом Инной Львовной Лиснянской. Ему всегда выделялось глубокое кресло, которое притаскивал из кабинета отца Гена. Кресло ставилось рядом со стулом очередного докладчика, всегда слева от него, Семён Израилевич, тяжело кряхтя, уютно устраивался в нём, и, таким образом, все могли смотреть на Липкина, а он внимательно смотрел на всех. Рядом с ним пристраивалась Инна Львовна. На обыкновенном стуле. Это отнюдь не было семейной иерархией – в это время Семён Липкин чувствовал себя скверно – через год его прооперировал блестящий хирург, профессор В. Б. Александров, вернувший поэта к жизни.
Липкин был чрезвычайно малого роста, толстенький, с усиками на худощавом лице, с невыразительными, тусклыми глазами. Но это до того, как он улыбался, ибо улыбка его, к сожалению, редкая, была такой детской, такой нежной и одновременно озорной, что он становился неузнаваем, как прежде тусклый в оправе драгоценный камень, на который неожиданно падал яркий свет.
Говорил он тихим, высоким голосом, но когда говорил, вокруг воцарялась такая тишина, что каждое его слово было слышно отчётливо.
Более всего в часы пребывания Липкина и Лиснянской на семинаре доставалось докладчику. Какого бы ранга докладчик не был, при виде двух легендарных мэтров поэзии, он тушевался, считал своим долгом промямлить приветствие и продемонстрировать своё перед ними преклонение. Однажды Семён Израилевич, видя особо сильное смущение докладчика – а это был профессор-астроном, доктор всяческих наук, – взмолился, обращаясь к Валерию Николаевичу: «Отнесите меня куда-нибудь! Я оттуда послушаю». На что галантный профессор-астроном возразил: «Лучше отнести меня, и я буду спокойно рассказывать оттуда». Разрядил обстановку дружный, добродушный смех всей аудитории.
Поэты, если и появлялись на семинаре, то, как правило, на докладах характера гуманитарного. Выслушивали доклады молча. Когда докладчик пил воду или вытирал пот, о чём-то перешёптывались друг с другом. По правилам семинара, установленным Валерием Николаевичем, доклад мог длиться не более полутора часов, но обсуждение доклада – сколько угодно. Поэты на обсуждения не оставались. Нина вызывала такси, кто-нибудь обязательно спускался с ними на лифте, сажал в машину и удостоверившись, что машина тронулась с места, возвращался в квартиру, и «освобожденные» семинаристы начинали вить из докладчика верёвки.
– Семён Израилевич, задайте хоть однажды вопрос докладчику! – съязвил как-то Валерий Николаевич.
– Я бы с удовольствием, – тихо ответствовал Липкин. – Но уважаемый докладчик так всё хорошо объяснил, что у меня нет ни единого вопроса.
– И вы поверили ему, что наша вселенная сотворена Высшим разумом? – настаивал Валерий Николаевич
– Честно говоря, я не сомневался в этом и раньше. И более всего убеждают в этом поэты.
И продекламировал тихо, с хрипотцой, без выражения:
Присутствие непостижимой силы
Таинственно скрывается во всём:
Есть мысль и жизнь в безмолвии ночном,
И в блеске дня, и в тишине могилы,
В движении бесчисленных миров,
В торжественном покое океана,
И в сумраке задумчивых лесов,
И в ужасе степного урагана,
В дыхании прохладном ветерка,
И в шелесте листов перед зарёю,
И в красоте пустынного цветка,
И в ручейке, текущем под горою.
– Это ваше? – спросил кто-то.
– Нет, – Липкин улыбнулся. – Таких стихов я писать не умею. Это написал хороший русский поэт Иван Саввич Никитин, лет, я думаю, 150 тому назад.
Спросивший густо покраснел, ибо в одном вопросе показал не только незнание творчества Липкина, но и незнание русской поэзии в целом. Дома Фима признался жене, что его просто опередили с этим вопросом.
Однажды Валерий Николаевич потребовал и от Фимы прочесть доклад о чем-нибудь интересном («Нехрена только слушать! Пора и выступить!»), и Фима решил поведать «высокому собранию» о хорошо известных ему проблемах загрязнения рек отходами химических предприятий. Две недели он готовился к докладу, как к защите докторской диссертации. И день настал. Фима пришёл за полчаса до лекции. С рулоном ватмана, на котором была начерчена принципиальная схема очистки сточных вод химических предприятий. С шестью исписанными листами. Тина села в первый ряд, чтобы он мог смотреть только на неё. По договорённости, она должна была приветливо кивать ему и иногда широко раскрывать глаза в радостном изумлении. Наконец, все расселись. Замолчали. Фима прокашлялся. И… вошли Липкин и Лиснянская. На сугубо технический семинар! За что это Фиме? Рассказывать блистательным поэтам о сточных водах? Да ещё прозой! Наконец, поэтов посадили на их законные места, и Фима начал доклад. И очень скоро обрёл себя. Он громко и уверенно говорил, и тыкал указкой в схему. Он чуть не плакал, рассказывая о судьбе Волги, Оки и озера Байкал, на берегу которого дымит огромный целлюлозно-бумажный комбинат. А рассказывая о массовом отравлении осетровых, случившимся на Волге в семидесятых годах в результате сброса в реку неочищенных фосфорсодержащих сточных вод, Фима вдруг оторвал глаза от восторженного личика жены и обратился, совершенно против своей воли, непосредственно к Семёну Липкину:
– Вы представляете себе тысячи и тысячи полумёртвых, с выпученными глазами осетров, безвольно носимых течением?..
На что Липкин, ни секунды не задумываясь, ответил:
– Скажу честно – с большим трудом.
И виновато улыбнулся.
Легкомысленная аудитория немедленно захохотала. Включая и Фимину жену. Тем не менее, закончил свой доклад Фима под дружные аплодисменты. Поэты тихо встали и двинулись к выходу.
– Семён Израилевич, – вдруг вырвалось у Фимы, – вам было интересно?
– Мне было чрезвычайно интересно.
– И у вас нет вопросов?
– Дорогой мой, если б мои вопросы могли спасти хоть какую-нибудь реку, речушку, на которой стоят эти химические чудовища, я бы задавал их день и ночь. И большое вам спасибо за рассказ.
А Инна Львовна подошла к Фиме и сказала:
– Как славно, что вы так искренне, порой даже возвышенно, выражали свою тревогу за судьбу русских рек.
Поэты ушли, и Фиму немедленно стали «рвать на части». Тина перестала улыбаться, с сочувствием глядя на отчаянно сражавшегося мужа, но все разошлись, весьма довольные.