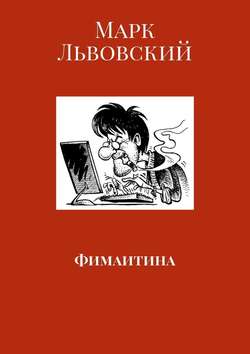Читать книгу Фимаитина - Марк Львовский - Страница 13
История жизни двух евреев – Фимы и Тины
Повесть в двух частях
Часть первая
– 9 —
ОглавлениеИ наступил день выступления поэтов…
От соседей приволокли ещё три стула и четыре кухонные табуретки. За первый ряд боролись интеллигентно, но ожесточённо. Когда Липкин и Лиснянская сели лицом к импровизированному залу, мгновенно наступила тишина.
– Мы сделаем так, – сказал Семён Израилевич, – мы не будем рассказывать о нашем творчестве. Это скучно. Но мы готовы отвечать на ваши вопросы. Если можно, характера не общего, как, например, творчество Пушкина или отношение к Советской власти, а конкретные, событийные. Мы готовы, да, Инна?
Он вытащил из потёртого портфельчика розового цвета папку, аккуратно развязал её тесёмки.
– У меня скверная память, а я хочу рассказать вам кое-что и в прозе, да и не все свои стихи, которые собираюсь прочитать вам, я помню наизусть. Так что, не взыщите, буду часто заглядывать в эту папку. Не скрою, я готовился к выступлению.
– Господа, – громко провозгласил Валерий Николаевич. – Прошу задавать вопросы в чёткой и краткой форме, не выпендриваться, не встревать в ответы, не дискутировать или спорить с докладчиками – они умнее всех нас, вместе взятых. Порядок вопросов буду устанавливать я. Вперёд, господа. Насладимся этим часом. Но, прежде всего, Семён Израилевич, расскажите, пожалуйста, о себе.
– В двух словах… Родился в 1911 году в Одессе, однако покинул этот город еще в юности. Мне было 8 лет, когда я поступил в пятую Одесскую гимназию, в старший приготовительный класс. В нашем околотке я был единственным не православным мальчиком, поступавшим, а потом и ставшим учеником казенной гимназии. Чтобы быть принятым в гимназию, мне надо было сдать все предметы только на пятерки. На мою долю соискателя выпала пушкинская «Песнь о Вещем Олеге». Я знал ее всю наизусть и знал даже название столицы Хазарского царства, потому что много читал и был достаточно смышлёным. Историк, принимавший экзамен, задал мне вопрос «на засыпку»: «На каком языке говорили хазары?» «Не знаю», – честно ответил я, и дорога в гимназию, по сути, была отрезана. Но как это бывало, в особенности, в Одессе, за меня заступился «батюшка», православный священник Василий Кириллович, и мне поставили «пятерку». Я на всю жизнь сохранил чувство признательности к нему. Посещал его и подолгу беседовал с ним до самой ссылки его на Колыму. Кстати, а кто из вас знает, на каком языке говорили хазары?
Ответом было гробовое молчание.
– До сих пор никто точно не знает, и я не знаю, какого ответа ждал от меня экзаменовавший меня историк.
Начал писать стихи. Они попались на глаза Багрицкому. Едва ли не в первом стихотворении он заподозрил плагиат: «Последние две строки вы спёрли у Гумилева». Я сказал, что вообще не знаю такого поэта. А на вопрос: «Кого знаете из современных поэтов?» ответил: «Эдуарда Багрицкого и Демьяна Бедного». На провокационный вопрос, кто из них мне больше нравится, не раздумывая, ответил: «Багрицкий… Он о море хорошо пишет и очень звучно…» И сразу услышал в ответ: «Так слушайте, Багрицкий буду я». По его совету я в 1929 году уехал в Москву. До 1931 года меня немного печатали. С 1931 года – перестали. Чем-то я советской власти не нравился. Тогда-то и занялся переводами. В 1937 году окончил Московский инженерно-экономический институт. Воевал. О войне писал много. В частности, главная моя поэма – «Техник-интендант». Название это придумал Гроссман…
Самое важное в моей жизни – встречи. Я беседовал действительно со многими великими людьми. И почти никого уже нет. Пустыня… Если хотите, два слова о Михоэлсе… С Михоэлсом меня познакомил поэт Галкин. Мы дружили с Галкиным, я его переводил и считал из современных еврейских поэтов самым крупным. И сейчас так считаю. И мы с Галкиным были два или три раза в гостях у Соломона Михайловича. Он жил недалеко от еврейского театра. По-русски Михоэлс говорил замечательно, без какого-либо акцента. Немного даже, знаете, в этакой русской театральной манере. У него была только одна комната, большая. А может быть, я ошибаюсь. Мы говорили о том, о сём, и я его спросил: «У вас в театре нет пьесы о евреях, которые уже не знают еврейского языка. Они оказались вне еврейской культуры. Они хотят прийти в ваш театр, а у вас нет ничего из их жизни». Михоэлс ответил мне на идише так: «Я их не замечаю, я их не вижу». Признаться, я меньше всего ожидал такого ответа… Вспомнил ещё… У Василия Гроссмана был рассказ «Учитель» – о человеке, который перенес войну. Он сделал пьесу по своему рассказу еще в 1947-м году, то есть, до начала антисемитской кампании, и сдал ее в театр Вахтангова. Речь в ней шла о массовом, поголовном истреблении евреев на Украине в годы войны. Театр Вахтангова в панике вернул пьесу Гроссману, не востребовав даже выплаченного аванса. И тогда Михоэлс, очарованный этой вещью, предложил Гроссману перевести пьесу «Учитель» на идиш. И получив пьесу, сказал: «Короля Лира я сыграл, а теперь сыграю учителя. Это будет моя последняя роль». Гроссман был влюблен в Михоэлса.
Липкин задумчиво улыбнулся и сказал:
– С Гроссманом мы часто бывали у моей мамы. Она угощала нас еврейскими кушаньями, которые Гроссман очень любил. Михоэлс называл любовь Гроссмана к еврейским кушаньям «гастрономическим патриотизмом».
Однажды Гроссман сказал мне: «Михоэлс уезжает в Минск. Поедем вместе провожать его на Белорусский вокзал». Мы приехали на вокзал. Михоэлса провожали дочь, Зускин и еще кто-то. Его жены на вокзале не было.
Михоэлс с Гроссманом медленно прохаживались по перрону, все время говорили об «Учителе». Я краем уха слышал. Гроссман спросил Михоэлса: «А так ли нужно вам ехать?» Михоэлс сказал: «Нужно. Речь идет о присуждении Сталинской премии, меня обязали посмотреть ряд спектаклей». Больше живым его не видели…
Поразительно, но Михоэлс погиб, как и учитель в пьесе Гроссмана – от рук убийц. То, что великий актёр не сыграл в своей жизни, он сыграл в своей смерти.
Липкин замолчал, проглотил подступившие рыданья, высморкался – беззастенчиво, шумно; успокоился, вытер с глаз подступившие слёзы и продолжал:
– Гроссман был – да простится мне столь затасканное выражение – кристальной чистоты человеком. Ничто мелкое, тем более гадкое, не приставало к нему. Однажды, со слов Багрицкого, я рассказал ему, что Бабель произнёс: «Я теперь научился спокойно смотреть на то, как расстреливают людей». Гроссман любил Бабеля, и сказал мне на это: «Как мне жаль его, жаль не только потому, что он так рано погиб, что они убили его, но и потому, что он – умница, талант необычайный, высокая душа – произнёс эти безумные слова. Что стало с его душой? Зачем он встречал Новый год в семье Ежова? Почему таких необыкновенных людей, как он, Маяковский, Багрицкий, так влекло к себе ГПУ? Что это – обаяние силы, власти? Стоит над этим задуматься, явление нешуточное, страшное». Через три года после смерти Гроссмана я написал стихотворение «Живой»:
Кто мы? Кочевники. Стойбище —
Эти надгробья вокруг.
На Троекуровском кладбище
Спит мой единственный друг.
Над ним, на зеленом просторе,
Как за городом – корпуса,
Возводятся радость и горе,
Которые, с нелюдью в споре,
Творил он из тысяч историй,
И снять не успел он леса.
Словно греховность от святости
Смертью своей отделив,
Спит он в земле русской кротости,
Сам, как земля, терпелив.
И слово, творенья основа,
Опять поднялось над листвой,
Грядущее жаждет былого,
Чтоб снова им стать, ибо снова
Живое живет для живого,
Для смерти живет неживой.
Был я знаком и с Булгаковым, знакомство произошло в редакции «Недра», где мне сообщили, что по цензурным соображением мои стихи редакцией не приняты. Вышел я расстроенный из кабинета редактора и увидел в приёмной человека с лицом каким-то не советским, красивым, значительным, что ли. Он был в мятом, кургузом пиджаке, накрахмаленной белоснежной манишке, галстук бабочкой, из-под рукавов с потёртыми краями виднелись старорежимные твёрдые манжеты. Взглянув на меня, он с улыбкой произнёс: «Выше голову, мой юный пиит! Вы начинаете в лучших русских традициях!» Затем Булгаков великодушно предложил мне пообедать с ним в Доме актёра. Надо было сесть на трамвай. И мы прождали не менее получаса, пока он, грохоча по рельсам, не прибыл на нашу остановку. И именно в этот миг, при мне, родилась у Михаила Афанасьевича, ставшая затем знаменитой, фраза: «Меня не то удивляет, что трамваи не ходют, меня то удивляет, что трамваи ходют». Гроссман, воспринимавший Булгакова, как чудо русской литературы, обожал эту фразу и любил её повторять, благо поводов к этому было сколько угодно.
Чудо русской литературы… Воистину – Булгаков, Бабель, Зощенко, Платонов, Гроссман, «Дети Арбата» и «Тяжелый песок» Рыбакова возникли в самую жестокую, в самую несвободную, в самую античеловеческую пору истории России. Сила человечности и честность истинного таланта оказались сильнее дьявольской мощи большевизма.
Да… Ну, вернусь к себе любимому… Надо было на что-то жить, и я занялся переводами. И неожиданно это стало огромной частью моей творческой жизни. Я действительно много перевёл. Киргизов, кабардинцев, бурят, индусов, поэмы Алишера Навои, Фирдоуси и другие. Я надеюсь, что хотя бы немного мне удалось передать очарование восточной поэзии, вообще Востока…
О, как балдеет чужестранец
В ночном саду среди пустыни,
Когда впервые видит танец
Заискивающей рабыни.
О, как звенят ее движенья,
То вихревидны, то округлы,
Как блещут жизнью украшенья
И глаз стопламенные угли.
А там, за этим садом звездным,
Ползут пески, ползут кругами,
И слышно в их дыханье грозном:
– Вы тоже станете песками.
Переводил с идиша Галкина и Маркиша.
В 1967 году чёрт меня попутал прочесть сборник эпических поэм Южного Китая. И среди создателей этого эпоса был народ, чьё название меня просто поразило: «И». Вот так просто, одной буквой был обозначен целый народ. И я написал стихотворение «Союз», с не слишком оригинальной мыслью, что даже маленькое племя вносит свой вклад в человеческую культуру, что истребление или просто исчезновение даже крошечного человеческого племени – невосполнимая рана всего человечества. И всего-то! Послушайте:
Как дыханье тепла в январе
Иль отчаянье воли у вьючных,
Так загадочней нет в словаре
Однобуквенных слов, однозвучных.
Есть одно – и ему лишь дано
Обуздать полновластно различья.
С ночью день сочетает оно,
Мир с войной и с паденьем величье.
В нем тревоги твои и мои,
В этом «и» – наш союз и подспорье…
Я узнал: в азиатском заморье
Есть народ по названию И.
Ты подумай: и смерть, и зачатье,
Будни детства, надела, двора,
Неприятие лжи и понятье
Состраданья, бесстрашья, добра,
И простор, и восторг, и унылость
Человеческой нашей семьи, —
Все вместилось и мощно сроднилось
В этом маленьком племени И.
И когда в отчужденной кумирне
Приближается мать к алтарю,
Это я, – тем сильней и всемирней, —
Вместе с ней о себе говорю.
Без союзов словарь онемеет,
И я знаю: сойдет с колеи.
Человечество быть не сумеет
Без народа по имени И.
И меня немедленно обвинили… в сионизме. За что? Любой синолог знает об этом народе! Кому пришло в голову, что это стихотворение посвящено иудеям? Евреи молятся в кумирне? Ничего не помогло. С того дня я – сионист.
Меня по сей день старательно выпихивают из страны, однако вне этой земли я немедленно умру.
Ты Господом мне завещана,
Как трон и венец – королю,
На русском, родном, – ты женщина,
На русском тебя восхвалю.
Не знаю, что с нами станется.
Но будем всегда вдвоем,
Я избран тобой, избранница,
Провозглашен королем.
Светлеет жилье оседлое
Кочевника-короля.
Ты – небо мое пресветлое,
Возлюбленная Земля.
Но до чего же хочется повидать мир!.. И особенно – Израиль.
– Семён Израилевич, почему не вы отнесли Войновичу копию романа Гроссмана «Судьба и жизнь», а Инна Львовна?
– Это была вторая попытка передать роман на Запад. Первая кончилась неудачей – роман не напечатали. Видимо, был выбран неудачный адресат, кроме того, Войновичу передал роман я, что, по-видимому, явилось второй причиной неудачи – я очень невезучий человек. Вообще, я чрезвычайно не гожусь для таких дел – мог бы взять вместо рукописи какую-либо книгу, взяв рукопись – оставить её в такси, забрав из такси – забыть передать её Войновичу и так далее. Кроме того, за мной могла быть слежка. Они были осведомлены о моей дружбе с Гроссманом. А Инна Львовна – прирождённая подпольщица.
– Семён Израилевич, а можно ли составить градацию поэтов по их общественной значимости?
– Я не очень понимаю, что такое «общественная значимость» поэта. Это вроде того, как «декабристы разбудили Ленина»? И ещё меньше понимаю, как она может быть связана с талантом поэта. По моему опыту, к общественной значимости рвутся поэты наименее даровитые или променявшие свой дар на эту самую общественную значимость, всегда у нас связанную с общественными благами. Так, творчество Евгения Евтушенко, кроме дивных ранних стихов, сейчас, поставленное на службу обществу, превратилось в огромную фабрику по воспроизводству самого себя.
Осип Мандельштам – гениальный поэт. При жизни его общественная значимость равнялась нулю. Едва видя знакомого, он бросался к нему, чтобы прочесть стихи. Половина знакомых не понимала их. Другая половина испуганно шарахалась от него, включая Бориса Пастернака. Потом Мандельштама сгноили в лагере. И если случится, что в неясном будущем его «реабилитируют», люди узнают его судьбу и прочтут его стихи, станет это общественно значимым событием? Сомневаюсь… Вот вам и общественная значимость гения. Сам он говорил о своей поэзии так: «утеха для друзей и для врагов – смола». Истинные поэты часто являются предвестниками общественных бурь и не влияя на их развитие, как правило, гибнут в них – Блок, Маяковский, Мандельштам, Цветаева… Другое дело, когда творчество поэта может, независимо от его стремления, стать общественно значимым. Но это происходит чрезвычайно редко.
– Например?
– Пушкин. Поэт, сотворивший новый русский язык. До него, кроме редких всплесков талантов, – болото. После него такой взлёт искусства, – музыка, поэзия проза, живопись, – что и сейчас не дано полностью осмыслить.
– А Маяковский?
– И что – Маяковский? Сталин подобрел от его стихов? Или от его призывов в стране стало меньше или больше убийц и стукачей? Или кроме немногих его друзей, матери, сестёр и трёх любимых им женщин, народ пролил слезу о нём? И даже пролившие слёзу старались как можно быстрее вытереть её, так как не знали, как отнесётся к гибели поэта «великий вождь и учитель». Друзья мои, поэт живёт в своём, никому, кроме него, неведомом мире. Он может, порой, должен откликаться на то или иное событие, но только из своего мира. Об этом очень просто сказал Мандельштам:
Как облаком сердце одето
И камнем прикинулась плоть,
Пока назначенье поэта
Ему не откроет Господь.
И раздался сильный голос писателя и поэта Юрия Карабчиевского:
– И в этом отличие поэзии от прозы.
– Совершенно верно, Юра, – отозвался Липкин. – Ибо поэзия – крик души, проза – итог раздумий. Но, пожалуйста, не принимайте эти определения за истину в высшей инстанции.
– Какие у вас были отношения с Мандельштамом?
– Не могу сказать, что сердечные. Он был снисходителен ко мне. Не более того.
– Он был хоть немного евреем?
– Думаю, да. Он считал себя человеком христианской цивилизации. Но не был христианином, хотя и принял лютеранство. Как это некогда сделал любимый им исконно русский человек Чаадаев. Надежда Яковлевна Мандельштам всё время подчёркивала, что он перешёл в христианство идейно, но в действительности этого не было. Он принял христианство, чтобы поступить в университет, но, в отличие от Пастернака, ощущал себя евреем. Интересно, что после того, как он прочёл Пастернаку знаменитое, судьбоносное «Мы живём, под собою не чуя страны», тот, в ужасе воздев к небу руки, сказал Надежде Яковлевне Мандельштам: «Как он мог написать эти стихи – ведь он еврей!».
Отчуждения от еврейства у него не было. Если, конечно, не понимать еврейство только как быт. Мандельштаму не нравилось, что его семья была отгорожена от русской культуры. Но он имел полное право написать про себя: «Среди священников левитом молодым…»
И заканчивая наше маленькое исследование еврейских корней Мандельштама, вспомним, что он сам говорил об этом в «Шуме времени»: «Как крошка мускуса наполнит весь дом, так малейшее влияние юдаизма переполняет целую жизнь. О, какой это сильный запах!»
– А каковы были ваши отношения с Ахматовой?
– С Ахматовой было по-иному. В 1961 году я написал главную свою стихотворную работу – поэму «Техник-интендант». Я читал ее в доме поэтессы Нины Манухиной, вдовы Георгия Шенгели, читал ей и жившей в то время у нее Ахматовой. Я заметил слезы на глазах у Анны Андреевны. Пришло лето, Анна Андреевна подарила мне свою маленькую книжицу в черном переплете с надписью: «С. Липкину, чьи стихи я всегда слышу, а один раз плакала». У меня несколько книг с добрыми надписями Ахматовой. Но эта – самая драгоценная. Она стала не только моей гордостью – она для меня право на существование, особенно в те годы, когда на родине я не существовал.
– Вам приходилось в своём творчестве кривить душой?
– Да, и не раз. Я много переводил не только для души, но и для заработка. По заказу. И там были вирши, которые переводить было довольно противно. Но иного заработка у меня не было. По этому поводу у меня однажды вышел такой разговор с Василием Гроссманом. Он писал главу о Сталине. Я заметил, что мне было бы противно писать о нём. Гроссман вспылил: «А сколько ты сам напереводил стихов о нём»? В ответ я привёл поговорку моего отца: «Можно ходить в бардак, но не надо смешивать синагогу с бардаком». На самом деле, главу о Сталине, дабы улучшить имидж книги, «заставил» его написать Твардовский. Но, к чести Гроссмана, он в ней не лижет сапоги Сталина.
Должен вам сказать, что нигде, как в писательской среде тех времён, трудно было оставаться человеком. В день 27 декабря 1958 года, когда исключали из Союза писателей Бориса Леонидовича Пастернака, в Москву, запыхавшись, примчалась хорошая писательница Вера Панова, дом которой был увешан фотографиями её любимого поэта Бориса Пастернака. Ей, как члену правления, крайне важно было проголосовать за исключение. Среди писателей активно осуждался поступок Корнея Чуковского, который поздравил Пастернака с получением Нобелевской премии. А писатели, сохранившие хоть немного порядочности, сидели дома, врали, что больны. Другое дело, что Бориса Слуцкого, секретаря парторганизации поэтической секции, буквально заставили выступить, его специально вызывали в ЦК, в случае отказа от выступления могли лишить партбилета, и он сдался… А потом жестоко корил себя и писал:
Уменья нет сослаться на болезнь,
Таланту нет не оказаться дома,
Приходится, перекрестившись, лезть
В такую грязь, где не бывать другому.
Но самое, на мой взгляд, страшное предательство совершил Илья Сельвинский, который за каких-то полгода до этого судилища публично благодарил: «…всех учителей моих от Пушкина до Пастернака». Далее расскажу своими словами из рассказанного мне Ольгой Всеволодовной Ивнинской. В критический момент жизни своего учителя, Сельвинский прислал ему из Ялты, где тогда отдыхал, письмо:
«Дорогой Борис Леонидович! Сегодня мне передали, что английское радио сообщило о присуждении Вам Нобелевской премии. Я тут же послал Вам приветственную телеграмму. Вы, если не ошибаюсь, пятый русский, удостоенный премии: до Вас были Мечников, Павлов, Семенов и Бунин – так что Вы в неплохой, как видите, компании.
Однако ситуация с Вашей книгой «Доктор Живаго» сейчас такова, что с Вашей стороны было бы просто вызовом принять эту премию. Я знаю, что мои советы для Вас – ничто, и вообще Вы никогда не прощали мне того, что я на 10 лет моложе Вас, но всё же беру на себя смелость сказать Вам, что игнорировать мнение партии, даже если Вы считаете его неправильным, в международных условиях настоящего момента равносильно удару по стране, в которой Вы живете. Прошу Вас верить в мое, пусть не очень точное, но хотя бы «точноватое» политическое чутье».
Но на этом Сельвинский не успокоился: вдруг его письмо останется неизвестным? Тридцатого октября он совместно с Виктором Шкловским отправился в редакцию местной «Курортной газеты» – как вам нравится этот орган печати? – и оставил там следующее заявление:
«Пастернак всегда одним глазом смотрел на Запад, был далек от коллектива советских писателей и совершил подлое предательство».
Не хуже выступил и сам Виктор Шкловский: «Книга Пастернака не только антисоветская, она выдает также полную неосведомленность автора в существе советской жизни, о том, куда идет развитие нашего государства. Отрыв от писательского коллектива, от советского народа привел Пастернака в лагерь оголтелой империалистической реакции, на подачки которой он польстился».
Сельвинский «Курортной газетой» не ограничился – в «Огоньке» №11 за 1959 год он опубликовал такое стихотворение:
А вы, поэт, заласканный врагом,
Чтоб только всласть насвоеволить,
Вы допустили, чтоб любая сволочь,
Пошла плясать и прыгать кувырком.
К чему ж была и щедрая растрата
Душевного огня, который был так чист,
Когда теперь для славы Герострата
Вы Родину поставили под свист?
Резолюция об исключении великого писателя и поэта из Союза писателей была принята под торжествующий рев зала. Писатели орали: «Предатель!», «Надо выслать!» Помню, как реагируя на этот кошмар, Гроссман воскликнул «Господи! Отчего так велик твой зверинец?!»
Отмечу, что на это позорное судилище не пришли Паустовский и Каверин, а Эренбург и Евтушенко во время голосования ушли из зала… Ольга Берггольц долгие годы хранила «тайные» строки:
На собраньи целый день сидела —
то голосовала, то лгала…
Как я от тоски не поседела?
Как я от стыда не померла?
Увы, как сказал Генрих Гейне, «Везде, где великий дух высказывает свои мысли, есть Голгофа». Я вам больше скажу – все эти писатели были искренны! Они ненавидели Пастернака, потому что завидовали ему! Нобелевский лауреат! Известен на весь мир! А их книги безнадежно пылятся в складских помещениях книжных магазинов. Ах, господа, грустно об этом, тема неисчерпаема…
– Семён Израилевич, вы ощущаете себя евреем?
– Меня заставляют ощущать себя евреем. Ладно… Я поддаюсь этому давлению. Мне легче, чем другим, потому что я человек верующий. И ещё потому, что была Катастрофа… Я много писал о ней, может, кто-нибудь и читал… Никто не читал…
Глаза его стали грустными.
– Ничего страшного. Я прочту вам стихотворение «Моисей»:
Тропою концентрационной,
Где ночь бессонна, как тюрьма,
Трубой канализационной,
Среди помоев и дерьма,
По всем немецким и советским,
И польским, и иным путям,
По всем плечам, по всем мертвецким,
По всем страстям, по всем смертям
Я шел. И грозен, и духовен
Впервые Бог открылся мне,
Пылая пламенем газовен
В неопалимой купине.
Кстати, среди всякой глупости партийных критиков есть и такой: богоискательство. Видимо, этот ярлык был предназначен прежде всего Инне Лиснянской. Хорошо бы знать этим ярлыковедам, что поэт – я имею в виду истинного поэта – испокон веков занят такого рода исканием, испокон веков тяготеет к трансцендентности, даже в том случае, если считает себя атеистом. По пути таких исканий направили русскую поэзию Ломоносов и Державин, мы видим на этом пути и Бунина, и Блока, и Есенина, и Мандельштама, и Пастернака. Сама просодия русского стиха, как и просодия стиха латинского или древнееврейского, молитвенная. Изменить или разрушить её невозможно, как ни старайся.
Возвращаясь к моему еврейству. Тора была для меня не только книгой, но и самой жизнью. Понятия «Бог» и «нация» меня волновали с тех пор, как я себя помню. Советская власть пришла в Одессу, когда мне было десять лет. До этого были разные власти, но эта власть религию подавляла, убивала и ссылала священников всех конфессий. Я не был ни пионером, ни комсомольцем – терпеть всего этого не мог. Я был просто верующим мальчиком. И я, прожив жизнь, думаю, что, на самом деле, пора слиться в одно всем, для кого важна главная основа веры – понимание, что все мы – люди, и потому люди, что созданы Богом по образу и подобию Его. Только это понимание может спасти мир.
Кто мы? Жнецы перед новыми жатвами.
Путники в самом начале дороги.
Будем в мечети молчать с бодхисатвами
И о Христе вспоминать в синагоге.
Но я знаю и то, что такого понимания люди могут достичь лишь после прихода Мессии. С другой стороны, мне труднее быть больше евреем, чем, простите за высокопарность, интернационалистом, оттого, что я – русский поэт, иудей по вероисповеданию, переводчик восточного эпоса, человек нескольких культурных традиций… Кроме того, я вырос в многонациональном городе. И так получилось, что несколько мальчиков и девочек разных конфессий подружились на том основании, что они веровали в Бога. Мы не спорили, какая религия лучше. Наоборот, мы были очень сплочены. Среди нас был мальчик армянин, девочка армянка, девочка католичка, два мальчика православных, девочка православная и два еврея. Вот такая компания. Сейчас это трудно себе представить, но в Одессе такое было возможно… Во всех религиях главное то, что мы произошли не от обезьяны, и то, что Бог существует. Есть близкие религии, есть далёкие. Но основа-то всюду одна. И всё-таки…
Я хочу умереть в июле,
На заре московского дня.
Посреди Рахилей и Шмулей
Пусть положат в землю меня.
Я скажу им тихо: «Смотрите,
Вот я жил, и вот я погас.
Не на идише, не на иврите
Я писал, но писал и о вас.
И когда возле мамы лягу,
Вы сойдите с плит гробовых
И не рвите мою бумагу, —
Есть на ней два-три слова живых.
Три книги, три мироздания вошли в мою жизнь, чтобы я двигался вместе с ними: Библия – Ветхий и Новый заветы, «Илиада» и сочинения Пушкина. Они вместе, для меня нераздельные, составляют солнце моих дней. Собственно говоря, в них заключена моя жизнь, в них я нашел то, что люди называют Красотой, а что есть Красота, как не Истина?
О Вере мы постоянно спорили с Василием Гроссманом. Однажды он обмолвился о роли комиссаров в победе над фашизмом. И я ответил ему: «Не вижу никакой роли партии в победе, победил Бог, вселившийся в народ». Я верил в это тогда и верю сейчас. Как и в то, что Бог вселился в народ Израиля, уже трижды победившего чудовище, тысячекратно превосходящее его по размерам.
– Пожалуйста, почитайте ещё…
– Вот, пожалуй:
К Яру Бабьему этого вывели,
Тот задушен таежною мглой.
Понимаю, вы стали золой,
Но скажите: вы живы ли, живы ли?
Вы ответьте, – прошу я немногого:
Там, в юдоли своей неземной,
Вы звереете вместе со мной,
Низвергаясь в звериное логово?
Или гибелью вас осчастливили,
И, оставив меня одного,
Не хотите вы знать ничего?
Как мне трудно! Вы живы ли, живы ли?
– Ещё, ещё, пожалуйста!
Липкин улыбнулся:
– Ну, вот и слава пришла…
Мы заплатили дорогой ценой
За острое неверие Вольтера;
Раскатом карманьолы площадной
Заглушены гармония и мера;
Концлагерями, голодом, войной
Вдруг обернулась Марксова химера;
Все гаснет на поверхности земной, —
Не гаснет лишь один светильник: Вера.
В светильнике нет масла. Мрак ночной —
Без берегов. И всё же купиной
Неопалимой светим и пылаем.
И блещет молния над сатаной,
И Моисея жжет пустынный зной,
И Иисус зовет в Ерушалаим.
– Ещё, пожалуйста…
– Господа, я немного устал, да пора и честь знать. Поэтому я прочту последнее, совсем недавнее:
Ужели красок нужен табор,
Словесный карнавал затей?
Эпитетов или метафор
Искать ли горстку поновей?
О, если бы строки четыре
Я в завершительные дни
Так написал, чтоб в страшном мире
Молитвой сделались они,
Чтоб их священник в нищем храме
Сказал седым и молодым,
А те устами и сердцами
Их повторяли вслед за ним…
Семинар долго и нежно аплодировал.
Липкин, уже в позе отдыхающего человека, возвёл руки к потолку:
– Великое вам спасибо – самым искренним и терпеливым слушателям!