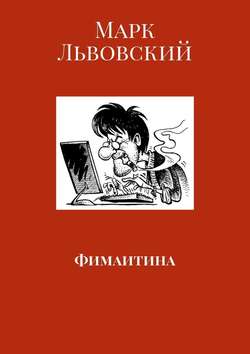Читать книгу Фимаитина - Марк Львовский - Страница 7
История жизни двух евреев – Фимы и Тины
Повесть в двух частях
Часть первая
– 3 —
Оглавление…Тина была детским врачом. И, видимо, хорошим врачом, ибо начальство после выдачи ей характеристики, требуемой ОВИРом, не уволило её, а лишь пристыдило и попросило не делиться с больными детьми своими планами на будущее.
…Жили хорошо. Нет, правда, хорошо. Лишённые родителей, они прижались друг к другу и предметами их постоянных, но, полных взаимной заботы, споров были: заводить ребёнка или подождать, идти на демонстрацию, с немалым риском загреметь на пятнадцать суток, или не идти. Надо признать, что, как правило, тяжесть Тининых аргументов была чуть весомее Фиминых. И на этот раз Фиме, мягко говоря, не очень хотелось идти на демонстрацию с плакатами «Отпусти народ наш!», «Свободу Юлию Эдельштейну!», «Свободу Александру Холмянскому»! и авторским плакатом Иды Нудель «КГБ, отдай наши визы в Израиль!» Но Тина настояла. Она утверждала, что приходят времена вегетарианские, и надо как следует засветиться, чтобы скорей уехать.
И Фима на демонстрацию пошёл, и действительно «засветился», получив восемь суток так называемого административного ареста за двухминутное стояние в дождливый апрельский день 1986 года у издательства газеты «Известия». Сиделось не тяжело, но в последний день произошло вот что. Утром их, шесть человек, вместе отсидевших восемь суток, долго вели длинными коридорами «Матросской тишины» и, наконец, разместили в большой, пустой камере. Ближе к обеду стали по одному вызывать для последней перед освобождением беседы, другими словами, неприкрытых, хамских угроз. Каждые полчаса раздавался грохот огромного засова, визгливо открывалась тяжёлая металлическая дверь, одного за другим сокамерников вызывал зычный голос «вертухая», и они исчезали. И очень скоро Фима к своему ужасу остался один. Он пересел на ближайшую к двери «шконку» в томительном ожидании скорого вызова. Сердце, будто предчувствуя беду, застучало так, что каждый его удар отдавался в голове. Мало того, тело начал сковывать холод. Время шло, никто его не вызывал. Фима в отчаянии сжимал и разжимал кулаки, растирал щёки и нос, но холод яростно отнимал у тела остатки тепла. Скоро он не выдержал и, бросившись к двери, замолотил по ней почти бесчувственными кулаками. Никто не отозвался. И у Фимы на самом деле началась истерика. Он орал, стучал кулаками по двери, прыгал, проклинал, умолял. Обессиленный, упал на «шконку» и заплакал. И, кажется, потерял сознание, ибо с великим трудом, будто сквозь глубокий сон, услышал скрип открывшегося в двери окошка и затем голос «вертухая»: «Чего орёшь? Обедать пошли. Ещё раз грохнешь в дверь…» И Фиму захлестнула такая волна счастья, что он запел, но, конечно, вполголоса, чтобы не быть услышанным этим замечательным «вертухаем».
Скоро Фиму вызвали, пригрозили, выдали бывшую у него до ареста мелочь, часы и ключи, и он, стыдясь своего немытого тела, головы, полной перхоти, грязных ногтей, наверняка скверного запаха изо рта, попал в объятия счастливой Тины и ждавших его друзей.
И с этого дня у Фимы начались видения. Короткие, но почти осязаемые. Так, перед ним мог появиться «вертухай», сказать ему какую-нибудь несуразицу, подмигнуть и исчезнуть. Или следователь, год тому назад допрашивавший его и пригрозивший большими неприятностями. Он тоже подмигивал, грозил ему пальцем и исчезал. И так далее. Тине Фима об этом не рассказывал, будучи уверенным, что скоро всё пройдёт. Не проходило. И стали сниться скверные сны – бессодержательные, но злые, всегда в них что-то горело, кто-то он убегал в страшной тревоге, а однажды его «переехал» поезд, причем, ночью, и он, «перееханный», с ужасом наблюдал за исчезающим в ночи красным огоньком последнего вагона. Проснулся в поту, захотелось разбудить Тину, но она так сладко посапывала, что он сдержался, бесшумно слез с кровати, выпил воды, пописал, снова залез в кровать, с великой осторожностью прижался по счастью вечером выбритой щекой к плечу жены и, почти счастливый, заснул.
Часто снились ему шахматисты, супруги Боря и Аня Гулько, демонстрацию которых с последующим избиением их, он через несколько дней после отсидки наблюдал с близкого расстояния. От жалости к тоненькой Ане Гулько он чуть не заплакал и едва не потерял сознание от вспыхнувшей в нём ненависти к этой стране.
А несколько дней назад… Он спешил в магазин, и вдруг на узком тротуаре, по правую от него сторону «пристроился» тот самый тип в штатском, который руководил разгоном демонстрации и посадкой демонстрантов в автобус.
– Фима, не спешите, мне надо поговорить с вами! – проговорил, чуть задыхаясь, чекист.
– Вы должны вызвать меня повесткой… – начал Фима заученную фразу.
– Это разговор неофициальный, дружеский…
Фима ускорил шаг. Тот не отставал. Фима припустился лёгкой трусцой – гебешник не отставал. Тогда Фима ещё более ускорил темп бега и взял чуть правее, в расчёте на то, что этот тип, коль скоро он не отстаёт, непременно треснется о толстенный тополь, стоявший на краю тротуара. Ещё быстрее! Баххх! Фиме даже показалось, что старый тополь качнулся от мощного удара. Правда, треска разбитого лба Фима не услышал, что очень огорчило его. Но Фима остался один! Он перешёл на шаг, и никого рядом не было! Он подпрыгнул от радости, возгордился своей сообразительностью и понял, что отныне сможет бороться самостоятельно с этими проклятыми привидениями. Гордости его не было предела. Он шёл и пел.
А через несколько дней после этой «победы» случилось вот что… В субботу, как обычно, Фима к двенадцати часам (на этот раз без Тины) пошёл к синагоге. Потрепавшись со знакомыми, Фима заметил, что один из «великих» отказников, Юлий Кошаровский, ничуть не стесняясь стоящих на противоположной стороне улицы Архипова гебешников, обходит старых «отказников» с письмом. Каждому потенциальному подписанту он давал прочесть письмо и, получив согласие на подпись, удобно располагал перед ним свой портфель. Письмо, по-видимому, было коротким, так как ни у одного подписанта он не задерживался дольше минуты. Когда он оказался в непосредственной близости от Фимы, тот вплотную подошёл к нему и сказал, что тоже хочет прочесть и подписать письмо. Ответ был ошеломляющим:
– Фима, я не думаю, что тебе это нужно. Это только для крутых «отказников»…
Фима потерял дар речи. И надолго. Чтобы прийти в себя, он стал обходить кипучие группки евреев, но не слышал ничего, кроме звенящего в голове «Это только для крутых «отказников». Покрутившись, предполагая помутневшей головой, что все с насмешкой взирают на него, Фима вдруг обнаружил, что находится перед входом в синагогу. Он поднялся по нескольким каменным ступеням, ведущим в молельный зал, откуда раздавался негромкий, монотонный гул молящихся. Взяв со столика, расположенного у входа, кипу, нашёл самое неприметное, с краю, место на тяжёлой, отполированной скамье, опустился на неё и задумался.
«…Я – везде, но везде ничего не значу… За 12 лет «отказа» я не родил ни одной идеи, не высказал ни одного дельного предложения. 12 лет меня знают только по стишкам «по случаю»… Ко всему я – трус. Я имею полное право сказать такое о себе. Да, я участвовал в демонстрациях. Но только в толпе. В толпе мне не страшно. В толпе меня охватывает торжество победы над самим собой. Я растворяюсь в толпе. В веществе толпы я исполняю роль молекулы. Я никогда не выходил на демонстрации в одиночестве, вдвоём, втроём, даже впятером. Только в толпе. Я подписал множество писем, где стояла толпа подписей. Почему же я обиделся? За какие такие подвиги моё имя должно прозвучать на «Голосе Америки», Би-Би-Си, «Немецкой волне»? Кошаровский неимоверно жесток, но прав! Не дают орденов за длинную жизнь, дают – за подвижническую. Но, с другой стороны, какое имеет значение ещё одна подпись? Наверное, это элитарное письмо… Письмо героев, в котором мне нечего делать… Что происходит со мной? Да мало ли писем ушло без моей подписи? Меня когда-нибудь искали для подписи? И я обижался? С другой стороны, сказали бы мне такие слова Володя Престин или Паша Абрамович? Нет, никогда, хотя кому, как не им, знать моё место в «отказе»… Пойти бы сейчас к ним, поплакаться, пожаловаться.
И Фима тотчас увидел измождённое, доброе, понимающее лицо Володи Престина, любимого «отказника» евреев. И Фима, даже не приподнявшись со своей скамьи, а только закрыв глаза, позвал Володю и, задыхаясь, рассказал ему о письме. Володя выслушал, стал нежно гладить Фиму по правой щеке. И, когда у обоих на глазах выступили слёзы, Володя исчез.
Окрылённый, Фима, опять же, не приподнявшись со своей скамьи, позвал Пашу.
И немедленно оказался около него. И, задыхаясь, рассказал ему о письме. И Паша спросил:
– Хочешь выпить? – и грубовато провёл по Фиминой щеке ладонью…
Выпить они не успели, потому что Паша исчез. Но Фиме определенно полегчало. На несколько секунд. А потом стало страшно. Как это получилось, что так явственны были Володя и Паша? Он замечал мельчайшие морщинки на лице Володи, тепло его руки, ощущал на щеках Пашины ладони. Но почему их искреннее сочувствие выразилось не в словах, а в прикосновениях к его щекам?
Фиму охватила паника. А тот тип, которого Фима укротил тополем? Он же слышал стук тела о дерево!
Как мне плохо! Как мне плохо! Господи, помоги мне! Дай мне уехать! Дай мне начать новую жизнь! Я не могу, не хочу быть среди героев! Я хочу быть среди инженеров, на худой конец – плотников…
По Фиминому лицу текли слёзы. Закончилась молитва. Старики, с трудом поднявшись со своих мест, бродили по залу, перебирая в ладонях кисточки своих талесов, подходили друг к другу и тихо разговаривали, вздыхали, вытирали платками слезящиеся глаза. Фима почувствовал себя лишним, боялся, что его спросят о чём-то. Он медленно отправился к выходу, положил на место кипу и пошёл домой.
Это была ещё одна ужасная ночь. На него топали ногами «отказники» и орали, что он лишний в «отказе», что незаслуженно пользуется подарками от иностранцев, что они вспомнят в Израиле всё…
Ему мучительно хотелось обо всём рассказать Тине. Но ещё мучительней было увидеть страх на её лице.
А через неделю к нему пришёл этот странный лейтенант с потёртой, времён войны, сумкой…