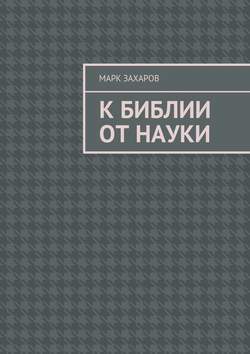Читать книгу К Библии от науки - Марк Михайлович Захаров - Страница 5
Глава 1. О ПОНЯТИЯХ
Формирование понятий
ОглавлениеОчевидно, что понятие – «Понятие», являясь результатом мышления, не может быть ни осмотрено, ни ощупано вне сознания, с которого мы просто обязаны начать.
Но глубоко в «начала» залезать не будем, а начнём где-то с Декарта. Т.е. согласимся, что каждый, если он мыслит, значит существует.
Каким образом механизм мышления реализуется в природе – нам неизвестно, но результат он конкретен и осмысляем. И, поскольку всякий мыслящий Иванов, Петров, Сидоров может мыслить на земле, под водой и в к осмосе, не общаясь с другими и даже не подозревая об их существовании, то можно (и нужно) предположить, что каждый из них формирует свои собственные понятия в виде слов своего «внутреннего» языка, на котором он сам с собой и разговаривает.
При этом, содержательность, смысловая наполненность слов этого личного языка адекватна (можно даже сказать – тождественна) содержательности самих понятий, используемых для «внутреннего пользования».
Для «внешнего» же пользования, к определённому возрасту в сознании каждого формируется индивидуальный транслятор со слов внутреннего языка на язык среды по месту жительства – русский, английский, китайский.
При этом, собственно само сознание нельзя «ощутить» как мы это можем делать с реальными объектами. Глазами, руками или понюхать. Сегодня сознание мы рассматриваем как свойство некой материальной структуры, которую мы называем носителем, и считаем, что вне носителя и без него никакое сознание реализовано быть не может.
Естественно, прямо здесь следовало бы обсудить – как свойство «сознание» встроено в носитель. За счёт чего и как в нем реализуется. Или хотя бы – как это вообще возможно?
Но, увы. Сегодня как на эти, так и все остальные вопросы о сознании, нет ни одного даже маленького ответика, проясняющего картину.
Ну, а потому, – мы будем только о том, о чём хоть как-то можно.
Например, отметим сразу, что мы никак не сможем отделить Сознание от Носителя, поскольку свойство неотделимо от объекта.
Но чтобы обладать нужным свойством, объект должен «состоять» из определённых элементов, связанных определённым образом. Т.е. всякое свойство всегда связано с определяющей его структурой. Как, например, свойство телевизора – чего-то там показывать – полностью определяется природой и организацией составляющих его элементов, которые в нужных нам состояниях просто не могут не проявлять своих «телевизионных» свойств.
Для носителя же доподлинно установлено, что при избыточном физическом, химическом и другом на него воздействии (битии бытиём :-) носитель ломается и теряет частично или полностью своё уникальное свойство – свойство мыслить.
Собственно, этот момент и позволяет рассматривать носитель способным существовать как бы отдельно от сознания, а сознание рассматривать – как свойство всякого не сломанного носителя. Неотъемлемое свойство и не более того Но, и не менее.
А, если ещё короче, то Сознание без носителя читай – фантастика, а Носитель без сознания читай – труп. Или, если хотите, – экс-носитель. Экс-носитель Иванова, Петрова, Сидорова, если говорить снова о реальном единичном.
Здесь всё также просто как ответ на вопрос – что нам позволяет компьютер называть компьютером и какая степень его поломки требует приставки экс. Ответ на этот вопрос, собственно, и позволяет без труда воспринимать всякого способного мыслить как бездефектный носитель с индивидуальным сознанием, подобно индивидуальным свойствам компьютеров разных моделей.
Теперь по вопросу формирования понятий. Пока человечеством твёрдо установлено лишь то, что понятия есть результат обучения и размышлений.
Вот наш совсем недавно рождённый малыш увидел яркую вещь. Потянул (инстинктивно) к ней ручонку, промазал. Потянул повторно целенаправленно, контролируя движения зрением – опять промазал. И так пока не дотянулся и не почувствовал какое оно на ощупь. Потянулся к другой вещи. Достал. Пощупал. Сравнил впечатления. Уловил разницу. Образовал новые понятия. Уточнил старые.
Двигаясь, малыш учится сидеть, стоять, ходить. А ходить, когда вокруг тебя сплошные «грабли», – это уже целая цепочка умозаключений и поступков – наступил – получил – сделал вывод. Не сделал вывод – получил ещё.
И так по каждому жизненному разделу. Методом личных (двигательных) проб и ошибок.
И двигательных до тех пор, пока малыш не научится вычленять информацию из звуков и речи. После этого обучение продолжается уже с наставником. Например, мама указывает ребёнку на что-то красное и говорит: «Это красный цвет». Что видит при этом ребёнок мама не знает, да и ребёнок тоже. Может зелёный. Но запоминает – красный. И уже потом, со всеми вместе: «Это – красный». И если мама дальтоник, то малышу, увы, придётся переучиваться.
А вот мама на прогулке указывает пальчиком: «Видишь, это наш дом». И теперь малыш, будет утверждать тоже самое вслед за мамой, указывая пальчиком.
НО! Когда мама произносит: «Это наш дом», у неё в сознании мгновенно проскальзывает не один образ. Здесь образ стен и мебели, требующих ремонта, и образ небритого папы, и насекомых за плинтусом. Допускается даже образ соседа с разной степенью неприязни вплоть до противоположной.
К малышу это тоже всё придёт по мере накопления опыта и корректировки приобретённого в детстве. Естественно, не в таком же точно сочетании, но в не менее богатом и образном.
И наконец, в школе малыш перейдёт к последнему и самому затейливому способу получения знаний. Знаний из книги. В одной из них он прочтёт, что «умножающий знание умножает скорбь», в другой, что «знание – сила». И сколько же ему останется ещё перечитать и переосмыслить, чтобы убедиться, что правы оба автора, но не абсолютно. Что правда зависит от многого, даже от желания эту правду знать.
И всё это, чтобы в конечном итоге, подобно Сократу, прийти к выводу, что он твёрдо знает лишь то, что он ничего не знает.
Но это всё потом. А пока у малыша развитие абстрактного мышления связано, прежде всего, с обдумыванием движений. Начинаются они (и обдумывания, и движения) ещё пренатально и существенно предшествует развитию письма и речи. Да, и вообще от них не зависят. Скорее наоборот. Ведь абстрактно мыслить в совершенстве – не значит в совершенстве говорить и писать. В противном случае, как заметил кто-то из титанов, все великие болтуны слыли бы и великими мудрецами.
Но сколько бы слов не изобретали «болтуны», их количество (слов) в любом языке, определённо, меньше, чем индивидуальных понятий. Более того, – у каждого индивида содержательность его личных понятий в течении только одного дня меняется в зависимости от съеденного, выпитого или просто от того, – с какой ноги встал. Поэтому, одни и те же слова, произносимые одним и тем же человеком в течении дня, могут существенно отличаться по содержанию. Я уже не говорю о возрастных наслоениях.
И как мы выкручиваемся из этой многозначности? Элементарно! Когда, при общении друг с другом, мы используем то или иное слово, мы по умолчанию полагаем его наполненным равным для всех смыслом.
И пусть далеко не всегда это справедливо, но вполне достижимо с требуемой для практики точностью. Просто, желающим договориться, следует чаще заглядывать в толковые словари, больше читать, общаться и корректировать содержательность понятий до состояния «общеочевидности» одновременно у всех участников обсуждения.
А потому и начинать любое обсуждение лучше с уточнения используемых понятий.
Здесь, возможно, вы подумали, что для вышеупомянутого «уточнения» придётся углубиться в дебри философии или там – логики, лингвистики, семиотики, лексикологии, этимологии, и т. п.
Скажу сразу, – такого мы делать не будем. И не потому, что стесняемся. Просто – это ничего не даст, ибо там (в дебрях) все ужасно мутно и по кругу.
Судите сами. В философии определение слова «понятие» начинается так: «Понятие – это форма мышления, в которой отражается…».
Естественно сразу встают вопросы: что есть «форма», что суть «мышление» и как это – «отражается».
И если мы зададимся целью определить это всё, то окажется, что без порочного замкнутого круга определения понятий через самих себя мы не сможем обойтись. Не сможем, если захотим, чтобы каждое новое понятие определялось через уже определённые нами ранее.
Здесь всегда остаётся проблемой – а как и через какие понятия определить самое первое (исходное) понятие?
А, если определить исходное понятие через уже определённые, то получим круг. Если же круг разорвать, то мы напрямую столкнёмся с бесконечностью последовательных определений, в конечном итоге ничего собственно и не определяющих.
Кто не верит, пусть попробует сам, а для облегчения пример.
В диалектическом материализме Материя определена как объективная реальность, независящая от нашего сознания. Там же, всё что зависит от нашего сознания – определяется как Идея. Таким образом, Материя – это то, что остаётся в реальности, если из неё выделить Идею и наоборот.
Пусть Идея нематериальна и её нельзя пощупать, но её можно передать другому, как часть реальности и, следовательно, Материя и Идея определяются друг через друга, т.е. по кругу.
Ну и что тут плохого? – спросит неискушённый читатель. Ведь все понятно. И вроде бы всё схвачено. Чем плох такой круг?
А можно сказать, что и ничем. Ничем, кроме того, что в подобном случае ничему другому между Материей и Идеей уже не должно быть места, а в реальности – любое одно есть либо Материя, либо Идея. Что, в общем-то, вполне приемлемо, когда нужно что-то быстренько обозначить в рамках кокой-то узкой темы.
Но вот возникает необходимость определить такие категории как Пространство и Время, без которых материи не обойтись. То вдруг обнаруживается, что вышеупомянутые категории обозначают нечто, не относящееся ни к Материи, ни к Идее. Вдруг выясняется, что Пространство и Время – это некие «Атрибуты Материи».
Конечно, можно и дальше нагромождать понятия на понятия. Что всякий Атрибут сам по себе без Материи не существует, что он суть форма (?), способ (?) её существования, обусловленный самим содержанием (?) этих категорий (?), ну, и т. д.
Но поздно. Круг разорван. И пусть Материя существует сама по себе, тогда как Идея и Атрибут требуют присутствия Материи. Пусть!
Но Атрибут – это не Идея, и не Материя. Но он есть! И не в Идее, и не в Материи. Стало быть – как-то так сам по себе, но (желательно) в той же реальности.
Таким образом, оказывается, что и Материя, и Идея, и Атрибут существуют, как самостоятельные сущности и как всякие сущности (в диамате) обязаны иметь собственные противоположности. Т.е. всякий Атрибут обязан иметь собственный Антиатрибут, с которым он должен «сливаться в тождестве», чтобы развиваться. Да, и почему атрибуты только у Материи? А почему и у Идеи не может быть своих атрибутов? Пусть пока не названных? А у каждого из атрибутов – своих атрибутов? А у тех, в свою очередь… И так далее… До дурной бесконечности.
Вот так и появляется возможность между Материей и Идеей (из которых вроде бы и состоит вся реальность) установить бесконечное количество самостоятельных сущностей, сводящих общую картину определений практически к хаосу, где допустима лишь классификация по классам, семействам, родам, но никак не систематизированная картина строго определённых императивных связей.
Поэтому обсуждать все это в ключе последовательных определений мы категорически откажемся. Заодно, вняв рекомендациям титанов, откажемся и от жёстких дефиниций и сосредоточимся исключительно на интуиции и здравом смысле.
Том самом сократовском здравом смысле, который предписывает не повиноваться ничему, кроме тех убеждений, которые после тщательной проверки представляются наилучшими, т.е. предельно удобными и убедительными.
И надо сказать это будет правильно, ибо любое учение, даже самое формальное (читай – математическое), начинается с так называемых исходных или интуитивно определяемых понятий. Понятий, сформированных в голове из личного опыта, воспринимаемых и обогащаемых через опыт, не требующих дополнительных словесных пояснений, а зачастую просто и не сводимые к ним.
– А к чему сводимые? – спросит любознательный читатель.
Здесь нельзя ответить одновременно и точно, и честно. В конечном итоге все упрётся в понятие интуиции, воспринимаемое нами также «интуитивно». После чего уже никакой набор слов о сознаниях, подсознаниях, знаках, символах первого и следующих порядков, существующих в голове как-то одновременно-порознь-слившись – ничего не прояснит. Только запутает.
Просто спросите себя сами – что такое для вас «точка» или «луч» из школьного курса геометрии. Что такое некий «образ» в голове. В чем смысл понятия «Смысл» и что есть – «Смысл» вообще. Что такое «Вера», «Любовь», «Гордость», «Счастье»?
И вам придётся согласиться, что каждому из нас необходимо не только родиться со способностью мыслить, но и попознавать и попочувствовать, чтобы, опираясь на накопленный опыт, проникнуться и наполнить, а затем и углубить смысл используемых понятий.
Потому дети (и даже большого возраста) чаще просто не воспринимают понятия в достойном объёме.
Например, при поступлении в институт киноинженеров одна девушка на вопрос: «Какую фотографию можно назвать художественной?», – запросто ответила: «Это когда художник нарисует, а фотограф сфотографирует».
Вот почему осмысление и уточнение исходных интуитивно воспринимаемых понятий и их обогащение проходит красной нитью через всю человеческую жизнь, через весь личный жизненный опыт человека.