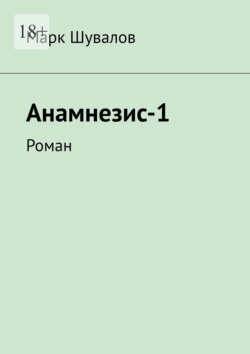Читать книгу Анамнезис-1. Роман - Maрк Шувалов - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 1
ОглавлениеКажется, прошелестел летний дождь. Нет, действительно, стало легче дышать. Люблю зябкость раннего утра и моросящие звуки за их способность дарить неповторимое ощущение новизны.
Странно спать и знать об этом. Мало того, на грани яви и сна рваться вслед поблескивающим молниям беззвучных гроз, уходящим за сияющий горизонт, и в погоне за ними пытаться сломать строй теневых преград, чья игра с неразличимым в отдельности чистым светом только и позволяет что-то увидеть. Увы! Обычное зрение, встречая незнакомый объект, некоторое время игнорирует очевидность и прилежно дорисовывает несуществующие детали – по образцу отраженных форм из прошлого опыта. И все же при усиленном всматривании мы способны преодолевать порог за порогом в понимании смутных образов бессознательного восприятия, чтобы совершать прыжки в неизвестное.
Между тем свежесть через раскрытое окно прикоснулась к моей тающей дрёме, хотя и не нарушила ее невесомой паутины: я пребывал в безмятежном облаке из ускользающих мыслей и сквозь ресницы наблюдал игру мерцающих радуг на поверхности рояля. Их искристые нити вспыхивали и гасли мозаичной гаммой сияющих слоистых оттенков подобно пушистым нежным волосам Даны на солнце. Также и ее настроение – точно струи ручья, что внезапно вздымаются при ровном течении: она может рассердиться без внешней причины. И разве я не внимателен к тонам ее дыхания или промелькнувшему блеску глаз, но, как ни напрягайся в стремлении упреждать эти едва уловимые переходы, из ничего возникнет новый нюанс, а ты в попытке не опаздывать впредь нет-нет, да промахнешься.
Трудно бороться с природой. Вероятно, самой разумной стратегией в отношении ее сил является отстраненное созерцание. Можно, конечно, и напролом, активно парирующими ударами – с целью освободиться, а лучше подчинить себе суверенную стихию, проникшись логикой ее на первый взгляд неупорядоченных всплесков и гейзеров. Но самый действенный путь – двусмысленный: переиграть противника, используя его же силу; и я стремился преуспеть в искусстве предотвращения безмолвных знаков неудовольствия своей строптивой скромницы, следя за чуть приметными вздрагиваниями ее ресниц и губ. Правда, приходилось порой изрядно поступаться некоторыми принципами, и только мысль, что сохранение мира с ней стоит и большего, успокаивала меня.
А поддержание зыбкого равновесия наших отношений требовало немалых усилий: это сложно звучащее переплетение состояло из противоречий по типу бинарных оппозиций. Хотя всякий раз мы из прохладной тени взаимной отделённости оказывались в горячей темноте слияния, где, поглощенный противоборством, я неизменно упускал момент наступления удивительных метаморфоз в своих ощущениях. Нечто перемалывало мою ярость в страсть, которая, удовлетворившись на время, непостижимым образом всякий раз являла внутреннему взору утренний туман цветущего сада. И, усыпанный атласно упругими венчиками из лепестков, тот своими тонкими шлейфами запахов и привкусов пополнял драгоценную коллекцию воображения, причудливо компонующего свои запасы.
Дотянувшись до рояля, можно лежа перебирать непорочно-белые гладкие тела клавиш. Их чистые голоса неизменно трогают мою душу. Впрочем, с детства даже гаммы вызывали у меня сердечный трепет. Помню призрачного дворника, шаркающего в тумане метлой, и себя в предрассветной дымке – спешащего на урок, что начинался ровно в восемь.
Моя преклонных лет бонна вставала крайне рано и могла заниматься лишь до одиннадцати, ибо к полудню по причине ночной бессонницы уже сладко спала в старинном кресле под уютным пледом. И от него – клетчато-пушистого – память всякий раз обращает меня к седым волнистым косам, уложенным вокруг головы этой прекраснейшей из женщин, чтобы потом мягко прикоснуться к ее лицу, испещренному нежнейшей сеточкой лучезарных морщин. О талантах ее ходили легенды, и попасть к ней в ученики дорогого стоило.
Я искренне любил свою наставницу, привившую мне кроме прочего умение настраивать душу как инструмент. И с тех пор обязательные утренние упражнения разворачивают во мне особую безудержную радость в ожидании необычного счастья, переплетенного со скользящим по роялю светом, за которым я спешу, импровизируя и устремляясь к тональной невесомости, чтобы, ухватив импульсы своего тела, преобразовать их в музыкальные пассажи.
Из-под полуопущенных ресниц так сладостно ловить неясные блики и на фоне тайного глубокого шепота жизни готовить пробуждение рояля. Его чувственный прибой с гармоничной звучностью накатывающих волн в открытые летние окна услышит весь дом и привычно примет мою музыку как естественный шум утра.
Но сегодня не хотелось нарушать тишину, поскольку Софью Павловну, живущую за стеной, вновь посетила изысканная дама. Я видел эту особу – в одеждах из легчайшей ткани. Правда, поля шляпы таинственной ажурной тенью неизменно скрывали ее лицо. Оставалось прислушиваться к голосу незнакомки на смежном балконе – грудному, бархатному, с чудными переливами. На фоне слабого дребезжания моей слезливой соседки он звучал точно звон бокала с дорогим вином.
– А что, Софи, не донимает ли тебя наш молодой друг? Новое поколение предпочитает рэп и техно, – говорила гостья, предоставляя мне наслаждаться плавными модуляциями своего великолепного глубокого контральто. И перед моим мысленным взором прорисовывались восхитительные контуры изысканно причесанной женщины – то ли актрисы, то ли исполнительницы старинных романсов – с полуопущенными ресницами и матовым свечением пионовых губ.
Софья Павловна отвечала своей незримой собеседнице:
– Он любит настоящую музыку, и надеюсь, сегодня мы услышим его восхитительную игру.
– Признайся, дорогая, тебя очаровывают артистичные мужчины. Сколько их образов хранит твоя замечательная коллекция; твоему таланту нет цены. И вряд ли ты устояла перед искушением запечатлеть своего молодого соседа.
– Я давно не занимаюсь этим: фотокамера сломалась, – последовал смущенный ответ, на что гостья ласково усмехнулась:
– Не пытайся меня обмануть, посмотри в зеркало – как зарделась. Я не в осуждение, но в своем одиночестве виновна ты сама: не следовало всю жизнь оставаться романтичной дурехой. Хотя, этим ты мне и дорога.
Столь музыкальный дуэт прервался паузой, в которой краткими чистыми звонами слышались лишь звуки чаепития. Не нарушая общего ритма церемонии и пропустив для этого несколько тактов, соседка его продолжила:
– Живет он один, – стало быть, никто нам не помешает. А какие ироничные у него глаза – видят тебя насквозь, просто сойти с ума. Он подойдет нам, поверь.
– Свести тебя с ума нетрудно. Но ты права, нужно заняться им на досуге.
Я чуть с кровати не свалился: эти грымзы решили мной заняться – интересно как?! Впрочем, образ таинственной гостьи тут же вплыл в мое сознание и растворил грубое слово, не подходившее незнакомке. Мало того, ее чудный голос проскользнул к самому моему уху, шелковисто коснулся его, и я почувствовал, что парю в невесомости.
– Привлечь меня способен далеко не каждый, но этот достоин усилий. Только забудь свои восторженные глупости, Соня, обещай выкинуть их из головы.
– Прогнать тоску способна лишь мечта.
– Мы найдем тебе новую мечту.
Пришлось таки выползти из постели и несколько раз отжаться, прежде чем отправиться в душ. Не видя лица изысканной дамы, я тем не менее с удовольствием представлял вспархивающие крылья ее одеяний и даже улавливал какой-то тонкий, едва различимый запах свежести – с беспокойными нотами корня родиолы розовой, промытого в горном ручье и поблескивающего старинной позолотой. Его волшебно ускользающий аромат всегда заставлял мое сердце сжиматься сладко и больно, обращая вспять время, пронизанное благоуханием багульника и струящимся рокотом таежных водопадов. Где ты, Леон? Но ведь я сам в который раз накормил его обещаньями собрать московскую команду для покорения норвежских порожистых рек.
Господи, о чем ты думаешь, – Гостья из иной физической реальности.
Почему-то мне представился наш двор – с пожилыми любителями отсиживаться на скамьях возле подъезда, под сенью старых раскидистых деревьев, чья густая тень всегда вызывала недовольство симпатичных интеллигентных старушек с первого этажа, жаждущих греться на солнышке. Милые стражи порядка и нравственности – в темных платьях с белоснежными отложными воротничками, с удивительно прямыми спинами и благопристойно поджатыми губами. Одна – бывшая математичка, а вторая, кажется, раньше преподавала химию. Обе до сих пор репетиторствовали, а потому строго поддерживали свою учительскую форму. Да и другие жильцы нашего старой постройки дома являли собой весьма колоритные личности: каждый с целым возом привычек, словечек, повадок. Но все они относились к людям вполне обычным, Гостья же виделась моему воображению окруженная волнами шифона и плывущая в воздушном потоке мне навстречу.
Уютный и тихий двор наш, в отличие от многих – полных неугомонной молодежи и детворы, – состарился с большинством поселенцев, предоставляя нарушать свой тенистый покой лишь голубиному воркованью, и появление в нем таинственной особы казалось вполне уместным и естественным. В моем детстве он был гудящим ульем жизни. Мальчишками мы усиливали его перезвон до самых высоких нот, а из моих окон к тому же слышались беспрестанные гаммы, немилосердно досаждавшие окружающим. Как ни странно, соседи уважали трудолюбие на данном поприще. Вероятно, причиной тому служила моя любовь к импровизациям, да и мать, искупая неудобства, приглашала всех желающих на отчетные концерты в музыкальную школу, что и вовсе сделало многих моих вынужденных слушателей завзятыми меломанами.
Добрососедские отношения ценились у нас особо. В порядке вещей было не только снисхождение к издержкам взросления, но и угощение из дверей в двери пирожками, вареньем нового урожая, яблоками с собственной дачи. Не редкостью являлись и дегустации привезенных с Кавказа вин. Помнится, две семейных пары вытаскивали на площадку рядом с песочницей мангалы и устраивали пиршества с шашлыками для всего двора, чем приводили в восторг местную детвору. На этих вечеринках велись занимательные беседы о горах и реках, поскольку главный устроитель данных собраний, пропахший дымом небритый мужичара, слыл заядлым походником. Его друзья хорошо пели под гитару, да и мне случалось показывать свое мастерство: как музыканта соседи привычно упрашивали меня сыграть что-нибудь.
Среди множества персонажей прошлого память почему-то особенно рельефно запечатлела одну разбитную деваху – с извечной в зубах сигаретой, за синим дымком которой она прятала грусть своих с прищуром глаз. Знала эта проблемная особа пару малоизвестных романсов и очень проникновенно исполняла их под мой аккомпанемент. Хотя и веселиться умела – по крайней мере, на дворовых пивных посиделках более других заливалась безудержным мелодичным смехом. А когда доходило до танцев, уморительно растрясала под музыку колышущееся тело.
Вот она-то однажды и пригласила нас с Гертом к себе на угощенье. Мы алчно заглотили ее стряпню, и я, не удержавшись, набросал портрет колоритной хозяйки, – уж больно живописные она имела формы. Толстухи пугали и отвращали мое воображение, но эта – пьяная и веселая, с милым конопатым лицом и румянцем во всю щеку – обладала бьющей через край витальностью, чего я, волнуемый неясными мечтами о полнокровной женственности, не находил в сверстницах.
Портрет чрезвычайно понравился модели, вдруг предложившей свое жилище для наших художественных экспериментов. Герт подтрунивал, намекая на знойные взгляды пышнотелой красавицы в мою сторону, когда соглашался на рискованное мероприятие, ведь узнай мой отец о данном начинании, непременно пресек бы его. Именно поэтому мы поспешили размыть побелку и приступить к работе, отрезав все пути назад.
Я тогда «болел» фресковой живописью и торопился претворить в жизнь несколько оригинальных идей, опробовать красочный состав собственного изготовления, а также технику послойных наложений. Увлечение уличным граффити не коснулось меня, поскольку в моем представлении сильно смахивало на некий ритуал самцов метить свою территорию. Однако творческая энергия просила выхода, – я жаждал масштабных поверхностей. Герт не учился со мной в художественной школе и, тем не менее, азартно помогал мне в качестве подмастерья.
Останавливать нас было поздно, итог же превзошел самые смелые ожидания, ведь с согласия владелицы мы даже ее ветхую мебель облагородили различными приемами, а подопытную квартиру так и вовсе превратили в произведение искусства. Правда, насладиться плодами нашего труда в полной мере довелось только дальним родственникам толстухи, внезапно уехавшей за каким-то парнем на Север. Приходили известия о приключениях отчаянной скиталицы, бросившей курить и отказавшейся от пива, а на одной из фотографий она предстала нам весьма похудевшей и привлекательной особой. Поговаривали даже, что извилистыми путями судьба занесла путешественницу в театральную среду, где и позволила ей достигнуть успеха после дебюта в качестве молчаливого персонажа с одним кратким выходом на сцену. А Герт по окончании универа куда-то пропал и по слухам очень преуспел в делах.
Душ приятно будоражил мое тело, как и прикосновения Даны, кисти которой при нашей первой встрече показались мне полупрозрачными: под тонким покровом изумительно гладкой кожи слабо пульсировали едва различимые голубоватые нити. Странно, но с первой же минуты, еще не прикоснувшись к этим хрупким рукам, я знал, что им холодно и желал их согреть, хотя вместе с тем ощущал волну сопротивления и не мог понять: Дана ли меня не допускает к себе, или я сам опасаюсь. Помнились мне приливы и отливы – не откровенно животного желания, вспыхнувшего от какого-то едва различимого оттенка запаха, – мысли теснились, устремляясь в узкий грот, и тотчас меняли направление в попытке вырваться из плена. Они до сих пор болтали меня как прибрежный галечник; я скучал и злился, оставшись из-за своенравия Даны на «голодном пайке» – без занятий любовью.
Что ж, придется терпеть и дожидаться. Конечно, всегда имелась возможность удовлетворить природу на стороне, – у меня накопилось немало удобных знакомств, – но желать Дану превратилось с некоторых пор в привычку. Остальные женщины как-то ушли в тень; и я спешил на работу, надеясь занятостью сгладить тяготы воздержания. Впрочем, меня больше заботило другое, – в отсутствие моей упрямицы все вдруг приобрело некую неуютность и привкус, подобный осадку от содеянного неблаговидного поступка или невольной неприглядности. И даже ничем не запятнанная совесть не избавляла от неясного чувства вины.
С утра было намечено найти претендента на обложку первого номера Журнала – пока единственного моего детища, к созданию которого я привлек вместе с товарищем по университету, Петькой Цитовым, и друга детства, Олега, чье экономическое образование пришлось очень кстати. Требовалась спаянная команда, благо зарубежные учредители предоставили мне свободу действий, – их, что бы они ни говорили, по большому счету интересовал лишь коммерческий результат.
Давно я ждал в себе волны энтузиазма – после длительного периода опустошенности и скуки. Еще вчера ничто не удерживало моего внимания и не порождало интереса, в первую очередь по причине неудовлетворенности от общения с женщинами, изрядно мне надоевшими. Да и как было не разочароваться в этих, постоянно рыскающих в поисках добычи, существах, особенно если без труда получать от них все, что ни захочешь. Но сейчас, несмотря на недосыпание и усталость, я испытывал душевный подъем. Идеи теснились в голове, не упорядоченные за день, я проваливался в сон, загруженный ими сверх меры, и мое творение уже имело имя – отнюдь не оригинальное, зато непоколебимое как вековая традиция – «Мужской стиль».
Теперь Журнал готовился обрести лицо, для чего я и посетил одно знакомое агентство с желанием долго и кропотливо выбирать, однако благим намерениям и моей приверженности к методичности помешал случайный взгляд в сторону менеджера, к которому подошел молодой человек.
Откуда берутся, из каких садов приходят такие мальчики – с нежными лицами, чарующими улыбками и накачанными рельефными торсами: мужественные на вид, но с тайной сущностью женщины?
«Стоп-стоп-стоп, почему именно он?» – споткнулся я на том, что всегда вызывало ропот моего сознания, из строгих сетей которого мысли легко ускользнули и плавно закружили вокруг юного красавца, неуловимо походившего на Дану, – не зря же он привел меня в некоторое волнение. Ее появление неизменно учащало мой пульс, что поначалу вызывало у меня замешательство, ибо на время лишало контроля над собой. Но всякий раз я затаенно ожидал беспокойных толчков в груди, возобновлявших угасающий среди обыденности окружающего круг жизни. И разве можно было не желать этого несравненного удовольствия?
Своими бицепсами и улыбкой я давно уже не слишком-то интересуюсь. Хотя внешне мужская красота всегда казалась мне значительнее женской, чьи текучие линии утонченно капризны и разочаровывают искушенный взгляд. Однако именно колеблемые несовершенства имеют чувственную власть над моим воображением, предпочитающим дорисовать эти трепетные округлости с их податливостью и оплывающей пластичностью, нежели наткнуться на самоуверенные мужские формы. Странно, инстинкт меня внутренне отстраняет от того, чем наслаждается зрение, – я с удовольствием запечатлел бы этого гиацинта, вернись моя страсть к занятиям живописью. Правда, даже вполне невинную любовь к рисованию мой внутренний судья бескомпромиссно считает анимой – «дамой», по моему убеждению, просто обязанной подчиняться анимусу.
Лицо первого номера я утвердил, и мой выбор незримо определила Дана. Беседуя в офисе с претендентами на вакантные должности, я раздумывал о ней и давешнем мальчике, ибо неизменно очаровывался образами эфебов в искусстве, одновременно крайне удивляясь нездоровому интересу многих дамочек к женоподобным юношам. Лично меня в себе пугает любой намек на недостаточную маскулинность. А ведь и под видом обычного, среднего мужчины скрывается некто, объединяющий оба этих начала.
Мальчик двигался раскованно, но с явной выигрышностью поз и жестов. Интересно, понравился бы он Дане, тонко чувствующей подобные нюансы? По причине ее отъезда мы не виделись и скверно, что наша последняя размолвка казалась серьезной. Хотя все они яйца выеденного не стоят и ссорами как бы не являются: обычно это язвительный монолог Даны, который я предпочитаю слушать молча.
Как бы она выглядела в обществе этого плейбоя? Он также ясно взирает на мир, только взгляд Даны отличается от блеска самовлюбленных глаз юнца, как глубокое озеро – от зеркала. К тому же, ни одна из ее поз не заденет нарочитостью, лишь порой движение пальцев выдает ее неприятие собеседника, – эти изысканно-отстраняющие жесты полны внутреннего сопротивления, неизменно провоцирующего мое желание. И конечно светловолосому агнцу не тягаться с ней в искусстве безмолвного разговора, а еще – он красиво одет. Облик же Даны органичен и целен, в нем детали одежды отступают на второй план, поскольку лицо и фигура приковывают основное внимание, переводя его в некую неосязаемую глубину. Но мальчик с нежно рдеющими тонкими скулами своим поверхностным лоском подчеркнул бы ее чистые и глубокие тона, как изящная рама – картину великого мастера.
Застигнуть бы Дану врасплох: только так взгляд ее, не успев прикрыться, задевает мою душу, точно натянутую струну – своим испугом, паникой, побегом. Меня назойливо интересовало, как могло бы пройти подобное свидание, ведь до сих пор я не встречал Дану – не просто с другом – с мужчиной. Многие ее знакомства оставались для меня тайной, лишь изредка она невольно допускала какую-нибудь двусмысленную обмолвку, однако, спохватившись, тут же изворачивалась и не позволяла выведать ни единой подробности. Расспрашивать было бесполезно и, мучимый догадками, временами я даже наслаждался подогретым ревностью огнем желания, хотя чаще разумно отодвигал эту возмутительницу спокойствия в тень, ведь Дана не давала явных поводов к недоверию.
О своих похождениях и вовсе лучше было глухо помалкивать: это с более раскованными женщинами можно обсуждать подобное, только не с Даной. Я и так постоянно увиливал от наших утренних ссор, молчал и терпел. А она жестоко провоцировала меня, пытаясь довести до бешенства, так что порой мои почти отказывающие тормоза удерживало лишь благоразумие и, как ни странно, азарт от борьбы с ней.
Люблю лето и запах мокрого асфальта после июньского дождя, но своими пробками Москва может задушить даже самого терпеливого и выдержанного человека. А когда воздух бесследно теряет свежесть и чистоту, наполняясь беспорядочным гомоном, гаснущим только в густой листве старых деревьев нашего двора, лишь они своей прохладой примиряют меня с мегаполисом. Однако сколько дел с утра, и в довершение позвонила тетка – с известием, что посылает сына поступать в институт.
Братец не входил в мои планы: эдакий хулиганистый малый по имени Гоша. Но предстояло встретить его на вокзале и отвезти к моей матери, переложив несколько дел на Олега, чего я особо избегаю ввиду неуверенности друга в себе. Нестандартные ситуации мучительны для него, он и специальность выбрал, чтобы работать в тиши кабинета, за компьютером, с цифрами – подальше от людского потока. Имея респектабельную внешность, Олег так и остался Малышом, опасающимся окружающего мира. Даже женитьба не изменила его: выслушав в мое отсутствие менеджеров, он может закрыться в кабинете с каплями валокордина. В нем сочетаются детская робость и зрелый интеллект, между прочим, изощренный в финансовых схемах, которые мы твердо решили применять, не слишком надеясь на быструю раскрутку издания. И Малыш, обнаружив в этой сфере недюжинные таланты, вызывал у меня чувство законной гордости.
До обеда я был взмылен делами, точно отыграл баскетбольный матч. Не переношу выбивающей из колеи беготни по инстанциям, – мне нужна атмосфера вдумчивой сосредоточенности, хотя это из набора прежних, подростковых, привычек: я давно умею эффективно действовать в любых обстоятельствах, удерживая вниманием сотни дел. В моем воображении красивый мальчик уже улыбался на обложке первого номера Журнала. Он снова напомнил мне Дану, так что под ложечкой заныло, ибо увидеть беглянку, уехавшую со своей мамой на море, не представлялось возможности. И ведь сообщила об этом в последний момент, расстроив все мои планы.
– Почему ты не предупредила заранее?! – почти зарычал я на нее в ярости, на что услышал возмутительно беспечный ответ:
– Самолет только через четыре часа. К тому же я не собираюсь подстраивать под тебя свою жизнь. И мне надоели наши ссоры.
– Ты сама их инициируешь.
– На это есть причины. Нам необходимо на время расстаться.
Взяла и уехала. Разумеется, крайне некстати, ведь два дня перед этим мы не виделись, что уже из ряда вон. Как-то незаметно ее незримое присутствие в городе сделалось для меня необходимостью: я с трудом принимал то обстоятельство, что нельзя прийти к ней по первому желанию. Мало того, внезапное своеволие с ее стороны тут же сковало мое сознание точно цепями, так что, даже просто взглянув на сексапильную штучку, садящуюся в такси, я ощутил парочку чувствительных уколов совести. Хотя уже через секунду не мог понять, что привлекло меня: стройные ноги, грудь (уж не силикон ли) или прихотливый изгиб пухлых губ? Нет, светлые волосы, вот только окрашенные и модно стриженые перьями. Им далеко до вьющихся нежных спиралей Даны, причинявших немало неудобств своей хозяйке, не любившей распускать волнистое покрывало по плечам. Нарушать строгое табу и снимать со своих волос заколки при мне она решалась лишь в моменты нашей близости, ибо всегда считала любую слишком откровенную демонстрацию женских атрибутов неприемлемой для себя.
Городская жара, приправленная автомобильными выхлопами, к концу дня сделала существование совершенно невыносимым.
– Никита, поехали – искупаемся, а заодно выпьем холодного пива, иначе я умру. Весь день в бегах и всё, между прочим, на благо общего дела! – говорил Цитов.
Как существо белокожее и легко краснеющее, он обливался потом, вытирал пунцовый лоб и беспомощно смотрел на меня своими светлыми глазами, похожими на полупрозрачных рыбок в отражающей отблески вечерней зари воде.
Мне также хотелось отдохнуть на природе, поскольку в отсутствии Даны наслаждаться я могу, лишь созерцая небо, воду и деревья, ибо иные удовольствия без нее теряют для меня вкус. Петьке в этом отношении повезло, чем он и не преминул воспользоваться, резво прыгнув на заднее сиденье машины, чтобы всю дорогу теребить меня своими разговорами.
Последний год он вынужденно обходился без собственных колес после того, как разбил старый отцовский «мерс». Своего нового красавца родители не рисковали ему давать, поэтому в моих планах было арендовать или даже приобрести для редакции какой-нибудь транспорт.
Вечер не прогнал людей с берега, но мы нашли уютное местечко и, скинув одежду, погрузились в воду, ощутив наконец-то блаженство. Цитов резвился, ныряя, как неуклюжий тюлений детеныш, а я разминался в заплыве. Запах травянистого склона и речной воды вместе с приглушенным гомоном купальщиков мгновенно вернул детские воспоминания, где присутствовала нежащаяся на солнце, но наблюдающая за каждым моим движением и готовая в любую минуту оказаться рядом, мать. Отец учил меня плавать, а я азартно сопротивлялся и, вырвавшись из его рук, поплыл сам. Помнится, он засмеялся и крикнул: «Упрямый китенок, зачем же я учу тебя, плавучего от рождения?»
День почти клонился к закату, и все-таки многие еще купались. Кто-то жарил шашлыки, в песке играли дети, а Цитов, похожий на белого моржа с бесцветной щетиной альбиноса, млел, лежа в траве, и своими глазами-рыбками восторженно разглядывал ее листья в надежде получить прилив поэтического вдохновения. Страшный фантазер, он в каждой былинке искал «знаки». Лицо его принимало попеременно расслабленные и отрешенные выражения: он все не мог определиться – романтическое ли у него сегодня настроение. Но тут блуждающий его взгляд подцепил двух девиц, Цитов приободрился и, косясь на них с похотливыми вздохами, зацыкал зубом.
Особы эти, на мой вкус недостаточно изысканные, посматривали в нашу сторону и игриво смеялись. Петька ерзал от волнения, чем забавлял меня и отвлекал от созерцания предзакатной реки. А ведь это Дана устроила мне отпуск от напряженной работы по преодолению, чтобы я в полной мере наглотался свободы. Останься она в городе, Цитов искал бы приключений один. Но даже на отдыхе что-то держало меня на привязи – какая-то обязанность, какая-то подспудная мысль: я скользил по окружающему, основательно и методично готовясь к неведомому главному.
– Как расточительна природа, упаковывающая в красивую оболочку нечто дешевое и пустое. Наверняка эти цыпочки примитивны, но оцени их роскошные фигуры, – говорил меж тем Цитов, посматривая на девиц.
– Почему так хочется этого куска мяса мне, не побоюсь сказать – умному, интеллигентному человеку, кого природа не позаботилась сделать волосатым грубым мачо, напротив, наделила нежной душой, желающей куртуазной страсти. Но видно осталось во мне что-то и от первобытного дикаря, – кажется, я смог бы рычать, отрывая куски от туши и принимая покорность самки.
– Не зазевайся, – сожрут в один присест, – усмехнулся я, – заметь, как под невинными предлогами вокруг нас сужается их кольцо. Пора сматываться, Петька, пока они не выказали активность. Завтра тяжелый день.
Недавно я и сам удивлялся, насколько сознание бывает невзыскательным, мало того, навязчиво-требовательным в своем призыве к плотским удовольствиям. Слава богу, разум мгновенно ставит все на место: уже через минуту ты и сам устыдишься своего интереса к какой-нибудь грудастой красавице, едва ли способной вызвать зыбкие, трепещущие мотивы. С приемом подобного блюда неминуема отрыжка, уж лучше поголодать и предаться иным удовольствиям – кристаллизованным впечатлениям, приносящим не менее чувственную радость. Однако Цитов время от времени был не прочь побыть диким.
– И ты, Никита, не строй из себя праведника. Всякий опыт необходим: в сравнении обостряется чувство прекрасного. Конечно, встретить бы умное, утонченное создание, но где уверенность, что это не одна из них? Женщины искусные актрисы и часто пытаются представать очаровательно глуповатыми. Все их сюсюканья и жеманство – орудия против нас. Знавал я одну непростую особу, считавшую нарочито наивный взгляд неотразимой приманкой для мужчин, – умных стерв мы якобы панически боимся, дабы не открылась наша собственная ущербность. А эти – оцени их продуманно небрежные движения и лица, достойные разве что светских львиц. Согласись, вполне уместно на пляже иметь вид беспечный и соблазнительный. Другой вопрос, что цели их слишком явны. Да, но и мы стали чересчур инертны, искусственно ограничиваем себя, забивая натуру и выискивая проколы в игре обольщения. А нужно прислушаться к зову природы, хотя, несомненно, в каждом из нас сидит волк-одиночка.
– Вряд ли они оценят в тебе то, что ты хочешь. Женский ум прагматичен и направлен на захват, так что не превратись из волка в добычу.
– Не считай меня слабаком. Впрочем, ляжешь с такой в постель, и удастся ли выпутаться без потерь – вопрос. «Она ему встретилась, а он ей – попался».
Похоть часто одолевала меня, но пролетала кратко, и разрядка вызывала некое избыточное утоление. Это как переесть сладкого, когда на самые соблазнительные угощения тошно глядеть. Нередко еще только в преддверии вожделения, озадаченный, я мысленно плутал в поисках ответа: зачем и почему самым возвышенным надеждам и мечтам бросает вызов свершающееся помимо нашего желания, ежечасно, изо дня в день, биологическое поведение по привычке. И ведь женщина, случайно привлекшая меня своим телом, видна насквозь и заранее неинтересна, даже скучна, но какая-то инерция не дает вовремя остановиться.
Правда, ни разу, ни с одной из них не посетило меня желание забыться в страсти. Никто, кроме Даны, не разжигал моего интереса – не к кинематографическому – к реальному эротическому действу.
Между тем только внешне я выгляжу уравновешенным. Вот и сегодня безмятежному моему отдыху мешал не вполне угасший за день спор противоречий. В душе вместе с тягой к спокойной уединенной жизни разгоралась жажда действия, и оба этих стремления имели надо мной чувственную власть: стоило удовлетвориться одному, тут же разрасталось другое. Почему-то вспомнилась Гостья, и вновь обострилось давно преследовавшее меня ощущение внутренней борьбы. Чушь, ерунда, ты еще скажи, что эти кумушки как-то влияют на тебя.
Пресс усталости, сжимавший тело, ослабел и почти затих. Наслаждаться бы тишиной и одиночеством, но если не уснуть быстро, придет томительная чувственная пытка. «Зачем ты уехала?» – злился я на Дану, чей ироничный голос неизменно вызывал во мне всплески желания, как и любое ее сопротивление, порождавшее у меня возбуждение, переходившее в фазу трепета. Сейчас, раздробленное, оно как капли ртути на гладкой поверхности набирало объем и силу, своей бесполезностью разверзая пугающую брешь в сознании – сильнее с каждой минутой. И в этой пропасти из забвения память точно бесконечный фрактал воссоздавала город с рекой и тенистым парком, где реальность сливалась с фантазиями и отдавалась эхом каких-то детских влюбленностей. А те, как и любое сокровенное воспоминание, питаемое неосуществленными мечтами – о природе, городе или женщине, – из прошлого и нынешнего всегда синтезируют особое виртуальное пространство – место и время, где счастливо исполняются все мечты и желания.
Порой меня привлекали эротические забавы, но только с Даной разворачивалась столь желанная мне изощренная игра в соблазнение, не слишком, правда, походившая на развлечение, скорее напоминавшая взаимное сопротивление. Отталкивая меня, моя недотрога провоцировала нападение, и удовольствия я получал не сравнимые с примитивной оргастической разрядкой. Меня прошивало насквозь сладостным током при виде того, как Дана упирается, уворачивается, одновременно всеми силами противясь неизбежно настигающему ее саму влечению.
В этом таилось нечто притягательно-животное – наивное, неподдельное и отчаянное, как стремление подростка к самоутверждению. В ее глазах в моменты самых интенсивных удовольствий проскальзывала тень ужаса, и этот страх перед собственной чувственностью разжигал во мне ярую потребность сделать так, чтобы блаженство накрыло жертву с неизведанной силой.
Тем не менее Дана упрямо боролась с собой, не слушая уверений в том, что не может быть преодоленной сексуальности, и огрызалась, собираясь волевым усилием разрешить свои проблемы в данной сфере и убить ненавистного василиска. Вполне понятно, «проблемы» никуда не исчезали, и насыщение не избавляло ее от рождения новой влекущей волны, ибо, слава богу, сексом правим не мы, а навязчивая древняя необходимость.
Мне оставалось лишь забавляться, наблюдая попытки Даны отменить законы физиологии, и выслушивать ее самонадеянные заявления, что уж сегодня она в последний раз поддалась мне, поскольку так сложились обстоятельства, и я – гнусный совратитель – просто-напросто воспользовался ее слабостью, плохим настроением, грустью.
Как же она злилась, когда все повторялось, при том, что, вырываясь, быстро забывала о цели борьбы, растворяясь в поцелуях и сдаваясь, не в силах противиться не столько моим рукам, сколько приливу, поднимавшемуся в ней самой.
Ну а я давно понял, что хочу ее одну, – лишь она мгновенно зажигала мою кровь. С другими женщинами секс завершался у меня равнодушным отторжением; часто я оставался вздернутым и раздраженным. С Даной же мы проваливались в сон в переплетенье рук и ног, не в силах разъединиться, хотя вслед за наслаждением вновь и вновь упрямо стремились освободиться от незримых пут друг друга.
Подспудно внутренняя борьба поглощала меня с первой нашей встречи, – с Даной вечно приходилось что-нибудь в себе преодолевать, безо всякой вины мучиться угрызениями совести и утихомиривать многочисленные нравственные раздражители. Порой мне мерещилось, что она страдает, усердно скрывая муки ревности. А ведь именно по настоянию своей упрямицы на людях я старательно изображал внимание к другим женщинам. Порой меня точили подозрения, что Дана искусно манипулирует мной, каким-то неведомым образом навязывая мне смутное чувство неудовлетворенности и раскаянья в несовершенных грехах. Но чаще я злился на то, что в угоду ей вынужден притворяться и подстраиваться, хотя и сам руководствовался нелепыми установками, диктуемыми двусмысленностью нашего с ней положения.
Впрочем, спектакль разыгрывался нами не столько для окружающих, сколько для самих себя, но, как ни стремились мы к определенной форме, как ни пытались придать своим действиям подобие упорядоченности, в борьбе со стихийными выплесками желаний оба терпели фиаско.
Человек неустанно отделяется от природы, дабы утвердиться в собственной исключительности, и упрямо дистанцируется от всех прочих природных созданий. Однако для ума унизительны не только животные проявления, такие как неконтролируемый гнев и неуправляемая похоть. Меня лишали покоя сомнения в собственной личностной состоятельности и, наравне с сознанием какой-то незавершенности и неразгаданного заблуждения, влекло к преодолению ускользающего порога, за которым я полагал обрести способность ухватывать моменты зарождения упрямых ошибок в построении исходной конструкции, без моей воли уже как мхом обросшей мыслями, памятью ощущений, влечениями.
Я вполне осознаю свои внутренние иллюзии и ложные проблемы, неизбежные и происходящие из самой природы разума, но что-то упорно насаждает мне потребность отыскать в себе «начало» и очиститься от внешних представлений, убеждений и наслоений воспитания. Только подобное «раздевание», на мой взгляд, способно помочь нащупать истоки своего существа – без искажающих факторов. Каждый для себя кратко повторяет всеобщие заблуждения, открывая мир заново. И все же хоть раз в жизни стоит предпринять серьезную попытку отделаться от мнений, принятых некогда на веру, чтобы произвести ревизию оснований – не с целью доказать их истинность или ложность, а для критической оценки принципов, на которые можно опереться, как на безусловные.
Тайная страсть манила меня на собственное дно, чтобы, всплывая ниоткуда, начать осознанно отсеивать пустые и взращивать подлинные чувства, отталкиваясь от первичной точки-зеро. Правда, ассоциирование себя нынешнего с собой изначальным следовало предварить радикальной работой: выявлением произошедших метаморфоз и разбором того, что есть во мне нового. Лишь тогда появилась бы надежда зафиксировать момент зарождения «мутации», неправильности, сбивающей стройную программу, – этой прозрачной, еле различимой медузы, – изобличить ее и нейтрализовать. Поймать же нарушительницу иным путем не представлялось возможности, и во всем мой слух улавливал ею привносимую фальшь.
Однако маленькую юркую тварь порождало вовсе не воображение: разум ясно различал в ней образ зла, насаждаемого извне, и требовал искупления. Но в чем оно? Как вырваться из неопределенной игры светотени, вглядеться в размытые контуры, нащупать форму? Я верил в способность активного мышления самоочищаться от навязываемых схем, догм и шаблонных ходов. И, тем не менее, назойливое присутствие чего-то неестественного, некоего изъяна, негатива, родственного детским страхам, суевериям и заблуждениям, извращало любую мою попытку успокоиться и толкало меня вывернуть мысль наизнанку, вытрясти из нее докучливую соринку, все время ускользавшую от воздействия. Только эта игра с самим собой, единственная, и давала надежду ее поймать. Позволить же кому-то или чему-то хозяйничать в своей голове равнялось бы скатыванию по наклонной плоскости от любого случайного толчка.
Правда, в ожидании освобождения приходилось усилием воли блокировать хаотичные движения души, рождаемые в бездне инстинктов, и надеяться на то, что данный сизифов труд развивает устойчивость к слепым призывам плоти. Но все мои неопределенные проблематичности не облекались реальным действием и сопровождались лишь благими намерениями, поскольку было неясно, как воздействовать на свой внутренний строй для наведения в нем порядка, – ведь я еще не вполне решил, чем хочу обладать и что в себе культивировать: nоn posse peccarу или posse non peccare.
Вид встреченного Гоши заставил меня поежиться от холодящего ощущения в животе: будто на мгновенье вернулись времена, когда я не слишком любил себя. Тогда мой разум, воспоминания, мышление, воля являлись как бы преобразованиями чувственности и в первую очередь – осязания, что подтверждало одну нравящуюся мне концепцию, признающую именно тактильные ощущения одним из главных критериев истинности наших знаний о материальном мире. Конечно, было в том возрасте и много хорошего, но помнились мне только мучительные метания между сознательным и бессознательным опытом.
Кузен выглядел надменно-независимым шалопаем. С ним маленьким тетя подолгу гостила у нас, поэтому играть с братцем поручалось именно мне. Я всеми силами пытался отделаться от этого противного сопливца и доводил его до рёва, чтобы впредь не допускаться к ребенку, коим он считался рядом со мной – большим мальчиком. Отец сердился, а мать уговаривала, но я отвергал унизительную роль няньки и упрямо стоял на своем.
В конце концов Гошу стали отправлять к моим троюродным сестрам, которые с удовольствием занимались этим бутузом. Обе – одна за другой – на радость семье повыходили таки замуж, хоть и засиделись в девках до тридцати лет из-за своих старомодных взглядов и внешней невзрачности. Не скажу, что находил сестер безнадежными в интеллектуальном плане, только выглядели они какими-то уж больно алчущими по отношению к мужскому полу, чем вынуждали меня шарахаться от своего благоговейного ко мне внимания.
Помимо двоюродного дяди с семейством и особо – его супруги, обремененной святыми обязанностями перед членами многочисленных ответвлений ее генеалогического древа, приходилось общаться еще с двумя моими бабушками, ведь мать любила родственные застолья с задушевными разговорами. Не употреблявшая спиртного, она наивно полагала, что опьянение способствует особой искренности и открытости. Само собой ее, внимательнейшую слушательницу «чистосердечных» излияний, всегда ждали, тогда как из нее вытянуть малейшее откровение случалось крайне редко.
Обе мои бабушки весьма пеклись о сохранении единства семейных уз и, увлеченные данной идеей, под старость даже поселились в одном подъезде, что, к сожалению, оказалось большой ошибкой. Сойтись близко из-за кардинально различавшихся воззрений они так и не сумели, а вынужденное общение столь ортодоксальных и самолюбивых особ множило взаимные обиды и непонимание. Но на людях эти истые дипломатки строго придерживались необходимого церемониала в отношениях.
Из детства в памяти остались шумные семейные праздники, где мне полагалось представлять что-нибудь из своих новых стихов или играть на старинном пианино – гордости одной из моих бабушек по причине наличия в его звучании отголосков клавесина. Среди детей нашей многочисленной родни я стоял особняком. Меня считали упрямцем, и хотя я любил восхищать окружающих своими талантами, но не терпел семейственных сборищ, а лишь подчинялся родителям. Мать искренне радовалась, отец же почти все такие вечера сидел молча, слегка улыбаясь.
Если выбирать, мне были больше по сердцу его друзья – две интеллигентных семейных пары, – да и мать с удовольствием встречалась с ними. Однако отец покорно возил нас к родственникам на знаменательные даты, вынуждая меня возмущаться навязанным общением с людьми, пусть родными нашей семье по крови, но крайне далекими мне по духу.
К ним полагалось проявлять приязнь, хотя трудно было решить порой, о чем говорить с дядьями весельчаками-пустозвонами, их женами-несушками или моими перезрелыми кузинами. Ну, а если предмет беседы все-таки находился, изъяснялись мы на разных языках. Особо приходилось переводить и расшифровывать для себя изречения женщин нашей родни, ибо при встречах эти восторженные клуши высказывались, не слишком заботясь о соответствии произносимых слов и вкладываемого в них смысла, а зачастую и вовсе обходясь одними междометиями и кудахтаньем.
Мать с тетей – сестры-близнецы, и хотя близки они далеко не во всем, неоспорима их синергия в увлечении примитивно-наивным эзотерическим вздором в поисках «великого смысла». А тот включает в себя забавную, если не откровенно невежественную, трактовку многих разнородных теорий и концепций, некоторых извлечений из конфуцианства, дзен-буддизма и даосизма, а также толкование сновидений по системе, весьма далекой от фрейдовской и приписывающей снотворчеству мистическую силу.
Правда, именно тетя своими восторженными речами, полными софизмов и четырехугольных глупостей, всегда искажала простые и ясные мысли моей матери – обычно немногословной и спокойной, – передавая той свой энтузиазм и с убежденностью проповедуя отменную чушь. Ожидание конца света, приметы, предчувствия, очищение кармы, наукоподобные теории и необходимость соблюдения почти языческих обрядов, – все это, наравне со многими атеистическими положениями, таинственным образом уживалось в сознании обеих с христианскими ценностями – притом, что ни та, ни другая не отличались религиозностью.
Но особо злила меня в матери, помимо восприимчивости к разному вздору, ее нетребовательная доброта к любому, даже незнакомому, человеку. Мы выработали с ней особый псевдоязык для общения, и, тем не менее, взрослея, я отдалялся от нее, хотя остатки воображаемой пуповины и сейчас соединяют меня с матерью через некоторые зоны сознания.
Отец в своей слепой к ней любви словно не замечал ее бабской дури, мало того, порицал мою резкость в адрес матери. С ним я также непримиримо спорил, что было далеко не простым занятием, ибо он обладал развитым интеллектом и, надо отдать ему должное, приучил таки меня считаться с аргументированными доказательствами и подчинять темперамент рассудку.
Вопреки моему мнению сознание матери, на первый взгляд бесхитростное, обладало чрезвычайной гибкостью и изворотливостью, а то, что я называл глупостью, являлось всего лишь недостатком культурного багажа, усугубленным наслоением неупорядоченной и разрозненной масс-медиа информации.
Она жила интуицией – этим особым разумом, позволявшим ей весьма чутко улавливать наши с отцом настроения и органично подстраиваться под них. Впрочем, ее постоянная забота, устилавшая мягким ковром обволакивающей нежности наш семейный мир, принималась мной как привычный жизненный фон. Неповторимая атмосфера уюта и домашнего тепла в своей обыденности не трогала мою душу, как не волнуют сельских жителей красоты природы, приводящие в восторг горожан. Я высокомерно считал, что от матери меня отделяет организованный ум, а ее подчас точное замечание приписывал случайности, отказывая ей в способности тонко понимать истинную суть вещей и явлений.
Мои несогласия с родителями касались преимущественно формы поведения на людях: с юношеской категоричностью я не принимал искусственности в общении с окружающими, невзирая на необходимые условности. С возрастом мои взгляды естественно изменились, но осталось упрямой привычкой противоборство с отцом в данных вопросах, подтверждавшее мне мою самостоятельность и независимость от него: как в раннем детстве я интуитивно знал, что поплыву сам. А с матерью спорить я перестал лет в четырнадцать, со скрытой яростью ощутив бесперспективность данного занятия, ведь она как воск принимала форму, предлагаемую ей, даже заведомо ложную, ибо в первую очередь интересовалась вниманием с моей стороны и нюансами моих настроений.
Меня страшно злило нежелание матери отстаивать свое мнение, я одержимо, хотя и тщетно, провоцировал ее сопротивление. Однако с определенного момента моя страсть в этом вопросе поутихла и заменилась убеждением в собственном неизмеримом превосходстве, что помогло мне отстраниться от слепого материнского обожания. Сейчас я испытываю к ней противоречивые чувства, но не могу отрицать глубинной нашей связи.
Гоша был «ошибкой молодости». Мой отец щедро поддерживал сестру матери в финансовом отношении, поскольку после развода замуж она не выходила и, несмотря на внешнюю привлекательность, придерживалась весьма строгих убеждений, отвергая свободные современные нравы и заботясь только о благополучии сына. Имелся у нее какой-то поклонник, чье наличие держалось в великой тайне, – тетя всегда соблюдала «приличия». Нынешний разрыв моих родителей привел к тому, что приехать она не решилась. Не одобряя поведения сестры и опасаясь создать видимость женской с ней солидарности, тетя подчеркнуто старалась не выглядеть неблагодарной по отношению к моему отцу. Тот находился в отъезде, что не помешало ей учесть щекотливые обстоятельства. Гоша как фигура нейтральная гостить собирался у моей матери, следить же за сдачей им экзаменов обязали меня.
При виде братца я едва сдержал усмешку. Передо мной стоял сутулый, долговязый и разболтанный тинэйджер со скучающим лицом успевшего утомиться от жизни человека, который, увидев «форд» – предмет моей гордости и сладостных волнений при покупке, – небрежно назвал тот «рулезной тачилой». Обошелся без «респекта», «вау» и прочих дешевых изысков – и на том спасибо. Напротив, усевшись и вдохнув запах дорогой кожи салона, с удовольствием огляделся и, любовно оглаживая поверхности, задал несколько дельных вопросов по вождению и эксплуатации автомобиля, удивив меня своей осведомленностью в данной сфере.
– И куда ты решил поступать? – спросил я, когда мы поехали.
– На мехмат, – последовал спокойный ответ.
Тетя часто хвалилась тем, что сынок разбирается в точных науках, однако представить Гошу умненьким мне было трудно. А ведь в свои семнадцать я смотрел на людей так же – свысока, что происходило с одной стороны от осознания себя обладателем солидного багажа знаний, а с другой – от неуверенности.
Как часто детские и юношеские комплексы наравне с иллюзиями диктуют нам поступки – забавные, глупые, даже жестокие, хотя и вполне оправданные чистыми чувствами, с которыми они свершаются. И все же, как ни привлекательна подростковая непосредственность, не желал бы я вернуться в мучительный период доказывания миру своей особенности и состоятельности.
Помнится, тогда я больше всего боялся выглядеть смешным. Этот страх загонял в подполье искренность притом, что он и научил меня держаться в любой обстановке с достоинством, ибо принуждал развивать свой вкус. Я остро подмечал нарушения стиля у окружающих, и со временем нелепый вид или смешная поза сделались для меня чужеродными, – строгий внутренний судья не позволит даже случайной оплошности отразиться на моей внешности.
– Ты заматерел, волчара, в тебе чувствуется лоск, – отметил однажды Сергей. К тому времени я стал значительно более раскованным, нежели раньше, но его слова польстили моему самолюбию, ибо он как некий эпицен обладал особой аристократичной статью. А ведь я помню друга неугомонным подростком, когда оба мы – юные ловеласы и денди – воплощали в жизнь свои пристрастия к истинной элегантности, в отличие от многих наших сверстников, изображавших маргиналов. Консервативность взглядов на облик мужчины сделала нас с ним недосягаемыми для тех, кто еще долго вылезал из мастерски украшенных, художественно-разодранных джинсов, металлических побрякушек, шейных платков, тинейджерских широких штанов и смехотворного подражания телекумирам.
На создание имиджа у меня лишь в очень юном возрасте влияло стремление нравиться девочкам, позднее это стало серьезной заботой иного рода: постоянно приводить свою наружность в соответствие с внутренним ощущением, требовавшим выражения в определенной форме. Но наступил момент, и я достиг порога, за которым больше не требуются усилия «делать» себя, – мое я идентифицировалось с желанным образом, слилось с ним. Неприемлемость для меня отдельных видов одежды и совершенная невозможность всклокоченности или иной неопрятности, казавшиеся теперь врожденными, являлись проявлением самоцензуры и вызрели без чьего-либо понуждения. Хотя, безусловно, отец сыграл определенную роль в формировании моих вкусов, в отличие от матери, чьи пристрастия и стили менялись много раз. Она чересчур увлекалась и поддавалась чужому влиянию. А, кроме того, матери я нравился в самых разных обличьях, – она приняла бы любой выбранный мною стиль с восторгом и обожанием, как и всегда своим отказом от какого бы то ни было сопротивления лишая всякой опоры мои амбиции.
И только Дана, даже находясь в отъезде, мучила меня своим упрямством, предоставляя ласкать моим мечтам лишь свое тело, тогда как неутолимой моей жаждой являлось проникновение в ее голову. Всеми силами стремился я овладеть сознанием своей вольнолюбивой пташки, секретным гнездом ее замыслов и умозаключений, правда, одновременно с этим страшился угодить в капкан, который тут же оплетет меня тугим коконом. Но ожидание тайной опасности волновало и разжигало во мне азарт охотника и неуемные фантазии, в которых Дана, смеясь и извиваясь, легко выскальзывала из моих рук, оказываясь туманом…