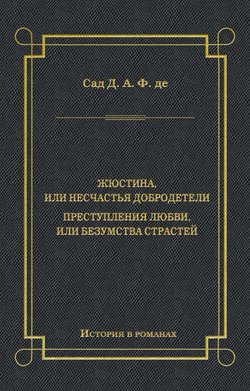Читать книгу Жюстина, или Несчастья добродетели. Преступления любви, или Безумства страстей - Маркиз де Сад - Страница 4
Жюстина, или Несчастья добродетели
Глава III
ОглавлениеСобытие, вырвавшее Жюстину из тюрьмы. В какое общество она попала. Новые угрозы ее целомудрию. Гнусности, которым она становится свидетельницей. Как и с кем она бежит из разбойничьей шайки
В тюрьме соседкой Жюстины оказалась некая женщина лет тридцати пяти, замечательная как своей красотой и умом, так и числом и разнообразием совершенных ею преступлений. Теперь она, так же как и Жюстина, ожидала приведения в исполнение смертного приговора. Одно обстоятельство только затрудняло судей: ей, запятнанной всеми мыслимыми преступлениями, нужно было подобрать достойную этих преступлений казнь, причем такую, какую закон разрешал применять к женщинам.
Жюстина внушила этой женщине живой интерес: преступление всегда заинтересовывается добродетелью, особенно если надеется сделать ее для себя полезной.
Однажды вечером, когда им обеим оставалось, надо полагать, не более двух дней до рокового часа, Дюбуа предупредила Жюстину, чтобы она не ложилась спать и постаралась, не привлекая особого внимания, занять место поближе к решетке.
– В восьмом часу, – объяснила Дюбуа, – в тюрьме вспыхнет пожар, это уж я подготовила. Конечно, в пламени погибнут люди, – эка важность. Нас не должны, Жюстина, волновать судьбы других, когда дело идет о нашем благополучии. Я не хочу знать эти смешные узы братства, которые выдуманы людским малодушием и суеверием. Будем сами по себе, дитя мое, будем одиночками, какими нас произвели на свет. Разве люди рождаются не в одиночку? Если для каких-то целей мы порой и сближаемся, то, как только отпадает в этом нужда, сейчас же расходимся. Каждый сам по себе – вот первый из законов природы, самый мудрый, самый нерушимый. С другими мы должны поступать сообразно нашим желаниям и возможностям: притворяться, если мы слабее, брать все силой, подобно зверям, если мы сильнее. И вот сегодня, среди смерти и огня, мы спасемся: четверо моих дружков, ты и я. Мы спасемся, Жюстина, клянусь тебе, и что нам до того, что случится с другими! Ты с нами.
Так, по необъяснимой прихоти Провидения, преступление стало покровителем невинности. В урочный час огонь вспыхнул, пожар мигом охватил все здание – не менее шести десятков людей погибли в пламени, но Жюстина, Дюбуа и ее сообщники уцелели. Той же ночью они добрались до хижины близкого приятеля всей шайки, промышлявшего браконьерством в лесу Бонди.
– Ну вот ты на свободе, Жюстина, – обратилась Дюбуа к нашей героине. – Теперь ты вольна выбрать себе такую жизнь, какую пожелаешь. Но если ты послушаешь моего совета, дитя мое, ты переменишь правила своего поведения, откажешься от поступков, которые, как видишь, ни к чему не привели. Откажешься от своей щепетильности. Щепетильности смешной и неуместной, потому что речь-то идет всего-навсего о сохранении целомудрия, а что уж говорить об этом, если, судя по твоим рассказам, Дюбур и Дельмонс давно уже его нарушили. Более того, скажу тебе, щепетильности опасной, которая чуть было не привела тебя на эшафот. Спасло-то тебя только преступление. Посмотри, к чему приводят людей добрые намерения и добродетельные поступки, ради чего жертвовать собой? Ты молода и красива, Жюстина, вручи мне на пару лет свою судьбу. Но только не думай, что к святилищу своего храма я поведу тебя по стезе целомудрия и скромности. Тот, кто хочет идти нашей дорогой, должен многому научиться и многое посметь. Убивать, красть, грабить, поджигать, отдаваться всем напропалую и уметь торговать своим телом – вот важнейшие добродетели нашего сообщества. Поразмысли над этим, дитя мое, и решайся скорее: оставаться в этой лачуге нам небезопасно, и еще до наступления дня мы должны уйти отсюда.
– О мадам, – ответила Жюстина, – я перед вами в долгу и никогда не забуду об этом: вы спасли мне жизнь. Ужасно лишь то, что это произошло ценой преступления. Поверьте, что, если б мне понадобилось пойти на него, я бы предпочла тысячу раз умереть. Я представляю себе, какие опасности ждут меня, но я не откажусь от тех правил, которые всегда живы в моем сердце. Но каковы бы ни были опасности добродетели, я предпочитаю их тем страшным благам, которые дарит порок Принципы морали и религии живут во мне и, благодарение небу, никогда меня не покинут. Бог обрекает меня на тяготы в земной жизни лишь для того, чтобы вознаградить меня в лучшем мире. Надежда на это утешает меня в моих несчастьях, смягчает мои печали, укрепляет в бедствиях, и я легко встречаю те невзгоды, которые Провидению угодно послать мне. Эта тихая радость тотчас угаснет во мне, как только я оскверню себя преступлением, и вместе со страхом наказания в этой жизни меня будет мучить ожидание возмездия в жизни той, и никогда уже моя душа не будет знать покоя.
– Вот дьявольщина! – закричала, нахмуря брови, Дюбуа, – Что за дурацкие теории, ведущие прямиком в психушку! Оставь ты своего проклятого Бога, дитя мое! Все эти наказания, все эти награды в жизни загробной – все это сказки для дураков, а ты ведь у меня умница, девочка моя! Послушай, Жюстина, ведь преступления бедных людей оправданы жестокосердием богачей! Пусть-ка выделят они из своих сокровищ что-то и на наши нужды, пусть человеколюбие воцарится в их сердцах, и мы тотчас же станем добродетельнее всех. Но пока наша забитость, наша покорность, наша, черт побери, добродетельность лишь удваивает тяжесть наших цепей. Ей-богу, дураками бы мы были, если б отказались от преступлений. Ведь только они и облегчают гнет, под которым нас держат богачи. Мы все равны между собой, Жюстина. Такими нас создала природа, и если суровая несправедливая судьба нарушила этот порядок, то мы исправляем эту несправедливость и возвращаем себе самое необходимое из того, что было у нас отнято. Ах, мне нравится их слушать, этих богатеньких, этих титулованных людей, чиновников, попов; я люблю их проповеди о морали. В самом деле, легко не стать вором, когда у тебя втрое больше, чем тебе требуется для житья. Как можно стать убийцей, когда тебя окружают со всех сторон восторженные похвалы льстецов, – на них, что ли, озлобится твое сердце? Ах, как не быть воздержанным и скромным, когда на столе перед тобой роскошные яства! Большая заслуга – не пожелать жены ближнего, когда твою чувственность в любую минуту могут утешить изобретения самой безумной похоти! Но мы, Жюстина, мы, которых это варварское Провидение, этот бесполезный смешной Бог, которому ты куришь фимиам как идолу, приговорили ползать на брюхе, как змей в траве, мы, те, на кого смотрят с презрением из-за нашей бедности, над кем тиранствуют оттого, что мы слабы, мы, по твоему мнению, должны свято блюсти их законы и отказаться от преступлений? Да ведь только преступление может помочь нам распахнуть запретные двери жизни, выстоять, существовать! Ты хочешь, чтобы мы оставались до конца дней своих покорны и унижены, тогда как этот класс будет пользоваться всеми дарами фортуны, обрекая нас на труд и страдания? Нет! Нет, Жюстина! Либо этот твой обожаемый Бог заслуживает лишь ненависти, либо все, что творится здесь, Ему неведомо, и тогда Его можно только презирать. Полно, дитя мое! Когда природа ставит нас в положение, в котором не прожить без злодеяний, и позволяет нам успешно их совершать, значит, и зло, и добро подчинены ее законам и она безразлична к ним обоим. Равенство – вот что создала для нас природа, и вина тех, кто его нарушил, больше, чем вина того, кто стремится его восстановить. И те и другие должны следовать законам природы и равно наслаждаться плодами своей деятельности.
Речь Дюбуа была куда стремительнее и горячей лекции Дельмонс, посвященной тому же предмету. Та, что совершила злодеяния из нужды, оказалась убедительней преступницы из склонности к распутству. Потрясенная Жюстина уже готова была пасть жертвой красноречия этой ловкой женщины. Но голос еще более могучий зазвучал в ее сердце, и она объявила своей искусительнице, что решила не уступать ее уговорам, что зло всегда останется для нее злом, а смерть не так страшит ее, как соучастие в каком-либо преступлении.
– Ну что ж, – сказала Дюбуа, – поступай как знаешь. Ты выбрала жалкую участь. Но если когда-нибудь тебе придется оказаться на виселице, потому что твоя добродетель не позволит преступникам вновь спасти тебя, вспомни, по крайней мере, наш разговор.
Во все время этого диалога четверо соратников Дюбуа усердно пьянствовали с приютившим шайку браконьером. Так как вино обычно призывает злодеев к еще большим злодействам, они, услышав решительный отказ Жюстины, вознамерились, раз уж не удалось превратить ее в сообщницу, сделать ее своей жертвой.
Образ их мыслей, род их занятий (а были они попросту разбойниками с большой дороги), их нравы, их нынешнее физическое состояние (после трехмесячного тюремного воздержания похоть прямо-таки распирала их), полумрак их убежища, ночное время, ощущение безопасности, охватившее их, опьянение, невинность Жюстины, ее возраст, прелестные черты ее лица и фигуры – все это наэлектризовало и воспламенило их. Поднявшись из-за стола и немного посовещавшись, они предъявили свои требования: Жюстина должна удовлетворить желания каждого из этой четверки, и немедленно. Не захочет добровольно – ее заставят силой. Если все произойдет по доброму согласию, каждый заплатит ей по одному экю и ее отпустят на все четыре стороны. В случае отказа она все равно достанется им, но тогда, во избежание огласки учиненного насилия, им придется ее заколоть и закопать под каким-нибудь деревом поблизости.
Нет смысла рассказывать, как было встречено Жюстиной это душераздирающее решение. Она упала перед Дюбуа на колени, умоляя еще раз оказаться ее спасительницей.
– Черт возьми! – воскликнула Дюбуа. – Мне и в самом деле тебя жалко. Ты дрожишь от испуга, когда тебя хотят осчастливить четверо таких бравых молодцов. Ну-ка взгляни. – И она по очереди стала представлять Жюстине всю четверку, – Вот первый, его зовут Бриз-Барб, двадцать восемь годков, ну а член у него, доченька, такой… Только бы им и любоваться, если б еще лучше не был у моего брата. Вот он! Кер-де-Фер – тридцать лет, а инструмент!.. Бьюсь об заклад, ты его и двумя руками не обхватишь. Третий – Сан-Картье. Посмотри, какие усищи! Двадцать шесть лет – Тут она понизила голос – Скажу тебе, что накануне нашего ареста он отделал меня двенадцать раз за один вечер. О! Четвертого ты наверняка примешь за ангела. Он слишком красив, чтобы заниматься нашим ремеслом. Мы прозвали его Руэ. Он и станет самым заядлым развратником. С его склонностями не миновать такой судьбы. А его дубинка!.. Нет, нет, Жюстина, ты это должна увидеть: такой прибор вообразить невозможно. Глянь, какой он длинный, толстый, твердый, а кончик как позолоченная шишка. Эх, я тебе признаюсь, когда он этой шишкой пронял меня до кишок, я почувствовала себя новой Мессалиной. Да ты знаешь ли, доченька моя, что в Париже найдется десяток тысяч женщин, которые отдадут половину своего золота или драгоценностей, только б оказаться на твоем месте. Послушай, – продолжала Дюбуа после некоторого размышления, – я достаточно управляю этими молодцами, чтобы добиться для тебя помилования, но только если ты меня не подведешь.
– Что ж делать, мадам! Приказывайте, распоряжайтесь мною, я согласна на все.
– Следовать нам: убивать, красть, подбрасывать отраву, резать, поджигать, грабить, разбойничать – словом, делать все как мы. При таких условиях я спасу тебя от остального.
Тут уж Жюстина не могла колебаться. Конечно, принятие таких условий грозило ей новыми опасностями, но они были не столь наглядны, как та, что грозила ей сейчас.
– Да, да, мадам, – вскричала она, – я пойду куда угодно, клянусь вам! Спасите меня от ярости этих людей, и я не покину вас до конца моей жизни.
– Ребята, – сказала Дюбуа, – эта девочка отныне в нашей шайке, я ее приняла. И прошу вас теперь: никакого насилия по отношению к ней, не отталкивайте ее от нас. Ее возраст и внешность помогут заманить многих простаков в наши силки. Пусть она служит для нашего дела, а не для нашего развлечения.
Человеческие страсти достигают порой такой ступени, когда ничто не может их сдержать: все старания заставить услышать голос разума тщетны, разнузданность заглушает его, и средства, направленные к тушению пожаров, лишь раздувают пламя.
Дружки Дюбуа оказались именно в таком, грозящем бедой, положении. Вся четверка, держа наготове свои орудия, ждала только, чтобы жребий определил, кому из них достанется первым сорвать плоды удовольствия. Они были пьяны, веселы, терзаемы похотью – какие разумные доводы могли подействовать на них?
– Нет, черт побери, – проговорил Бриз-Барб, – надо, чтобы паскудница пропустила нас всех через себя, только так она может спастись. Никто же не говорит, что для приема в воровскую шайку надо держать экзамен на добродетель. И девственность не нужна никому, чтобы выйти на большую дорогу.
– Тысяча, сто тысяч чертей, – воскликнул Сан-Картье, вплотную приблизившись к Жюстине и демонстрируя перед ней свои мужские достоинства, – клянусь Богом, на которого я, впрочем, плюю, мне невтерпеж отделать ее! Или задушить – пусть сама выбирает.
Содрогаясь от ужаса, внимало наше кроткое, трепещущее создание этим словам. Предназначенная в жертву, Жюстина простирала в мольбе руки к своим мучителям. И Бог, которого эти изверги оскорбляли своими грязными проклятиями, защитил ее.
– Одну минутку, – сказал Кер-де-Фер, на правах брата Дюбуа имевший честь возглавлять шайку. – Одну минутку, друзья мои, мне охота не меньше, чем вам. Вот посмотрите. – И он своим огромным молотом ударил по ореху, лежавшему на столе. Орех раскололся. – Не меньше вашего мне необходимо избавиться от накопившегося семени. Но я думаю, что все это можно устроить так, чтобы все остались довольны. Раз уж эта шлюшка так держится за целомудрие, а в целомудрии, как очень справедливо заметила моя сестра, есть нечто ценное, и оно может послужить нам на пользу, оставим этой девице ее девственность. Но надо ведь и нас успокоить. Ты видишь, сестрица, в каком мы состоянии, мы ведь вас обеих, чего доброго, придушим, если вы станете мешать нашим планам. Мы – люди необузданные, и поток наших страстей может затопить всю окрестность, если ему не найти правильного русла. Ты вспомни, Дюбуа, нам приходилось убивать сопротивлявшихся нам женщин, и это было нам не в диковинку. Ты видела, что преступление ничуть не мешало удовлетворению похоти, и наше семя, смешавшись с кровью, исправно лилось в створки раковины как ни в чем не бывало. Поэтому внимательно выслушайте, что я предлагаю.
Надо, чтобы Жюстина осталась в чем мать родила и в таком виде позволила бы нам по очереди позабавиться с нею, как нам придет в голову. А Дюбуа в то же самое время удовлетворит нашу страсть более основательно.
– В чем мать родила? – воскликнула Жюстина. – Предстать обнаженной перед мужчинами! О Боже праведный, чего вы требуете! Когда я окажусь в таком виде перед вами, кто защитит меня от всяких непристойностей?
– А кто тебя сейчас защитит, шлюха? – спросил Руэ, запуская руку под юбки Жюстины и норовя поцеловать ее.
– Да, дьявол тебя побери, кто тебя защитит? – подхватил Сан-Картье, ощупывая оборотную сторону той медали, по которой уже бегали пальцы Руэ. – Ты же видишь, что ты в полной нашей власти. Видишь – тебе остается только полная покорность. Покорись или умри!
– Полно, полно, оставьте ее, – проговорил Кер-де-Фер, отталкивая от Жюстины своих товарищей. – Дайте-ка ей спокойно приступить к тому, что от нее требуется.
Жюстина, почувствовав себя свободной, воспрянула духом.
– Нет, – сказала она, – вы можете делать со мной все, что захотите, вы сильнее меня. Но по доброй воле вы ничего не получите.
– Хорошо, тварь, – проговорил Кер-де-Фер и закатил Жюс-тине такую оплеуху, что она опрокинулась на кровать. – Мы тебя сами разденем.
И с этими словами он задрал ей юбки и, выхватив острый нож, полоснул по ним. Он действовал с таким ожесточением, словно вспарывал живот своей жертвы. Через минуту самая совершенная в мире нагота вторично была выставлена на обозрение самому чудовищному сластолюбию.
– Приготовимся же, – распорядился Кер-де-Фер, – Ты, сестрица, ложись навзничь на кровать, чтобы Бриз-Барб взял тебя спереди, а Жюстина пусть сядет на тебя верхом поближе к лицу Бриз-Барба и напоит его из своего источника – ему понравится, я его вкус знаю.
– Мать честная, – откликнулся Бриз-Барб, не спеша пристраиваясь на животе Дюбуа, – никогда мне не было так хорошо. Спасибо тебе за эту выдумку.
Он накачивает Дюбуа, Жюстина пускает струйку ему в рот, он извергается, и к делу приступает Сан-Картье.
– Пока я буду отделывать твою сестрицу, – обращается он к атаману, – подержи передо мной эту потаскушку.
Просьба уважена. Он шлепает ладонью по щекам Жюстины, потом по ее груди. Целует ее в губы, кусает их и так сильно мнет груди бедняжки, что она близка к обмороку. Ей больно, она молит о пощаде, слезы появляются на ее ресницах, и это еще больше возбуждает злодея. Он начинает все быстрее раскачиваться на теле Дюбуа и наконец, почувствовав, что наступила кульминация, с силой отталкивает от себя Жюстину.
Очередь Руэ. Он вставляет свой стержень в отверстие, но его останавливает Кер-де-Фер.
– Постой-ка, сынок Я хочу взять тебя в попку. А потаскушку эту мы поместим посреди, между нами, ты будешь щупать ее спереди, а я сзади.
Несчастная Жюстина, терзаемая двумя разбойниками, уподобилась молоденькой иве под двумя грозами. Вот уже с одной стороны безжалостно исщипан нежный мох, покрывающий Венерин холмик, а с другой – обе подушечки очаровательных ягодиц расцарапаны острыми когтями Кер-де-Фера.
Двое распутников, проворно поменяв места жертвоприношений, меняют содомию на кровосмешение и становятся: один – мужем своей сестры, а другой – любовником своего зятя. Жюстина, однако, ничего не выигрывает от этой мены. Возбуждаясь, Кер-де-Фер делается еще более жестоким. Он с силой бьет Жюс-тину по щекам «Посмотрим, кто ударит сильнее, – кричит он сообщнику, – хлопни-ка ее по заднице, братец!»
Два молота заколотили по наковальне. Жюстина была настолько истерзана, что у нее носом хлынула кровь.
– Вот этого мне и надо было, – зарычал Кер-де-Фер, жадно припав к льющимся из ноздрей ручейкам. – Присоединяйся к нам, Бриз-Барб!
Он тут же получает еще одного участника, он в восторге, он опустошается наконец. Наступает тишина.
– Во всем этом, – говорит, поднимаясь, Дюбуа, – мне кажется, в самом большом выигрыше оказалась я.
– Ты всегда умеешь устраиваться, – ответил ее брат. – Ведь только для того, чтобы перепробовать всех, ты не допустила нас до этой девчонки. Ну ладно, потерпим, в ней-то от этого ничего не убавилось.
Пора было отправляться в дальнейший путь, и в ту же ночь шайка перебралась в Трамбле, рассчитывая оказаться вблизи лесов Шантийи, где они надеялись на несколько удачных дел.
Отчаяние Жюстины было ни с чем не сравнимым. Мы полагаем, что она уже достаточно знакома нашим читателям, чтобы они поняли, как мучила ее необходимость следовать за такими людьми, и что решимость сбежать от них при первой возможности все более укреплялась в ней.
Разбойники расположились на ночлег среди стогов сена близ Лувра. Наша сиротка хотела было пристроиться рядом с Дюбуа, но та вовсе не намеревалась в очередной раз служить защитницей девичьей чистоты. Она предпочла предаться увеселениям плоти с тремя своими сообщниками. Четвертый подошел к Жюстине. Это был Кер-де-Фер.
– Милое дитя, – начал он, – надеюсь, вы не откажете мне провести ночь подле вас. – И, заметив, какое отвращение отразилось на лице Жюстины, поспешил успокоить ее: – Не пугайтесь, мы просто поболтаем, а если что и случится, то только по вашей доброй воле. Ах, Жюстина, – продолжал этот мошенник, устраиваясь рядом и обнимая девочку, – не кажется ли вам несусветной глупостью надежда соблюсти свою чистоту, оставаясь с нами? Даже если мы согласимся с вами, совпадет ли это с нашими общими интересами? Бесполезно скрывать от вас, милое дитя, что, когда мы будем останавливаться в городах, мы рассчитываем, что ваши чары помогут нам заманивать в ловушку дураков.
– Что ж, сударь, – отвечала Жюстина, – так как вы знаете, что я предпочту смерть этим мерзостям, не могу понять, какую пользу могу я вам принести и почему вы не хотите оставить меня в покое?
– Разумеется, мой ангел, не хотим, – согласился Кер-де-Фер. – Вы должны служить или нашим интересам, или нашим наслаждениям. Ваша несчастливая судьба возложила на вас это бремя, и надо его нести. Но знайте, Жюстина, что в этом мире нет ничего непоправимого. Послушайте меня и определите свою судьбу сами. Согласитесь жить со мной, милая девочка, согласитесь принадлежать только мне, и я вас избавлю от печальной роли, вам уготованной.
– Мне, сударь, стать любовницей…
– Договаривайте, Жюстина, договаривайте! Вы хотели сказать «мерзавца», не так ли? Вы хорошо понимаете, что я не могу предложить вам другого звания. Вам известно, что мы не вступаем в законные браки. Мы – другие. У заклятых врагов всяческих цепей нет стремления связывать свою судьбу с кем бы то ни было, и чем благоуханнее для так называемых порядочных людей розы Гименея, тем они для нас отвратительнее. В необходимости потерять то, что вам так дорого, не лучше ли пожертвовать этим ради одного человека, чем стать, без собственного защитника и покровителя, добычей многих?
– Ну, во-первых, почему же я не могу выбрать другую участь?
– Да потому, что мы вас не отпустим, дитя мое, и это самый веский довод. В самом деле, – Кер-де-Фер почему-то стал говорить быстрее, чем прежде, – какая жуткая нелепость ценить столь высоко, как вы это делаете, такой пустяк! Неужели девушка может быть настолько наивной, что верит, что ее добродетель зависит от того, какого размера и глубины некая частичка ее тела? Что людям и Богу важно – нетронута эта частичка или разрушена? Скажу больше: по замыслу природы каждая особь в этом мире должна выполнять то, ради чего она была создана. Женщина же создана на радость мужчине, для его наслаждения. Это ее предназначение, так ее замыслила природа, и сопротивляться тому, что она замыслила для вас, – значит, оскорблять ее. Это значит оказаться существом бесполезным для этого мира и потому презренным. Ваше дурацкое благоразумие, бессмысленное ваше целомудрие отделяют вас от того, чтобы быть нужным природе и обществу, и, стало быть, оскорбляют и то и другое. В сущности, это смешное упрямство, заслуживающее порицания, и оно не к лицу такому умному созданию, как вы. Может быть, вы устали меня слушать, но все-таки послушайте еще, дитя мое. Хорошо, я согласен уважать вашу слабость. Я не прикоснусь, Жюстина, к тому фантому, существованием которого вы так дорожите. У красивых девушек есть в запасе не только этот дар, и служение Венере может совершаться не в единственном храме. Есть и другие. Я удовлетворюсь самым тесным. Знайте, моя дорогая: близ лабиринта Киприды есть мрачная пещера, куда спрятались от нас страсти, чтобы сильнее манить нас к себе. Там будет алтарь, на котором я воскурю фимиам. Там ничто нам не помешает. Если вас пугает беременность, этот путь исключает ее. Ваш стан останется по-прежнему стройным. Плоды, которыми вы дорожите, не будут сорваны, и вы пребудете все в той же чистоте. При этом способе ничто не может изобличить девицу. Каким бы яростным и многочисленным атакам она ни подвергалась… Едва пчела, насытившись соком, улетает, чашечка розы закрывается, и никто не может сомневаться в том, что она никогда и не открывалась. Есть множество девиц, которые наслаждались таким манером лет по десять и с разными мужчинами и выходили замуж во всем блеске своей невинности. А сколько отцов, сколько братьев злоупотребляли таким образом родственными чувствами своих дочерей и сестер! Однако и им не пришлось краснеть, выходя замуж, за то, что они не уберегли свою перегородку. А сколько священников на исповеди пользуются такой же дорогой! Словом, это прибежище тайны, в этом месте страсти укрощены оковами благоразумия, что еще добавить к этому, Жюстина? Если этот храм потаенный, то он и самый восхитительный. Наслаждение, получаемое там, – чистое, беспримесное, не похожее в этом смысле на место, расположенное по соседству, куда проникаешь с усилиями, где боль неминуемо предшествует первой радости. Те, кто выбрал эту дорогу, никогда не сожалеют о том, что пренебрегли другой. Попробуем же! Решайтесь, Жюстина, дайте мне ваш дивный маленький зад, и мы оба будем счастливы!
Поползновения распутника были тем более опасны, что незаурядный ум и логика соединялись в нем с грубой физической силой и полнейшей разнузданностью. Но Жюстина пока была еще в силах воспротивиться соблазнителю.
– Сударь, – отвечала она, – я никогда не занималась теми ужасными вещами, к которым вы склоняете меня, но осмелюсь сказать, что столь восхваляемое вами деяние оскорбляет не только женщину, но и саму природу. Гнев небесный настигает таких грешников еще в этом мире: вспомните Содом, Гоморру и другие города. Господь испепелил их своим огнем – вот грозный пример того отвращения, какое вызывает в Предвечном эти поступки. И земное правосудие подражает небесному и посылает на костер предающихся этому пороку.
– Что за наивность! Что за ребячество, – воскликнул в ответ Кер-де-Фер. – Кто вбил вам в голову, милая моя, такие предрассудки? Еще немного терпения, и я помогу освободиться вашему разуму.
Растрата семени, предназначенного для умножения рода людского, дитя мое, – вот единственное преступление, которое может твориться в этом случае. И если это семя находится в нас единственно с целью размножения, то я с вами соглашусь и немедленно объявлю этот акт преступным. Но если можно доказать, что, создавая в нашем теле запасы семени, природа вовсе не имела в виду, что все они будут использованы для размножения, тогда, если принять эту гипотезу, какая разница, Жюстина, куда выбрасываем мы семя – в матку ли, в зад, в рот или в ладони? Значит, такое расточительство – вина природы, она так задумала, а мы лишь следуем ее велениям. И сколько таких случаев, показывающих, что они никак не оскорбляют природу, раз она их допускает.
Эта непоследовательность нарушает монотонность ее движения, разрушает ее планы, обнаруживает ее слабое место и извиняет наши прегрешения. Да к тому же природа сама по тысяче раз на дню производит такие же бесплодные растраты: вспомним ночные поллюции, сношения с женщиной беременной или во время месячных. Разве это не доказывает снова и снова, что природа не противится бессмысленной гибели плодоносного семени? Она позволяет нам тратить этот драгоценный нектар с тем же равнодушием, с каким она его производит. Она терпимо относится к умножению нашего рода, но ей далеко до того, чтобы стремиться только к этому и во что бы то ни стало увеличивать число людей. Наш выбор ей безразличен. Мы, зарождая новую жизнь или же губя ее, не радуем и не печалим природу. Мы, стало быть, вольны в своем выборе. Поверь же, милая Жюстина, природе не до таких мелочей, которые мы возводим в культ. Она стремительно шествует своим путем, доказывая ежедневно и ежечасно тем, кто ее изучает, что она создает лишь для того, чтобы уничтожать созданное. Разрушение – вот важнейший ее закон, без этой перспективы ничто не рождается на свете. Не убеждаетесь ли вы теперь, дитя мое, что, каким бы ни было святилище, природа позволяет воскурить на нем фимиам и этот знак почитания никак не может ее оскорбить? Ты станешь теперь толковать мне о Боге, будто бы наказавшем однажды за сладостные, преступные утехи жителей жалких местечек в Аравии, о которых ничего не может сказать ни один географ. Здесь надо начать, правда, с признания существования Бога, чего признать я никак не могу. Затем допустить, что этот Бог, которого ты, милочка, мнишь Творцом и Властелином вселенной, мог унизиться до того, чтобы проверять, в какое отверстие, переднее или заднее, вводят мужчины свои детородные органы. Какая мелочность! Какая несообразность! Нет, дорогая Жюстина, Бога – нет!.. Идея Бога зародилась среди невежества, тревог и несчастий; именно там возникли у смертных мрачные, тошнотворные представления о Божестве. Проэкзаменуем все религии мира, и мы увидим, что представление об этой могущественной воображаемой силе всегда связано со страхом наказания. Мы трепещем и сейчас потому, что много веков испуганно дрожали наши предки. И если мы докопаемся до первопричины тех постоянных опасений, унылых мыслей, которые просыпаются в нашем мозгу при упоминании имени Бога, мы найдем ее в тех катаклизмах, потопах, революциях, которые уничтожали какую-то часть человечества и потрясали сознание тех, кто ухитрился избежатв гибели. В мастерской страха создает человек тот смешной фантом, который зовется Богом. А нуждаемся ли мы вообще в том движителе, если пытливое исследование природы говорит нам, что движение – один из первейших ее законов?
Теперь мне хочется возразить еще на одно ваше суждение. Вы полагаете, что рука этого смешного фантома разрушила арабские поселения, о которых вы говорили. Но дело в том, что, расположенные на склонах вулкана, они были поглощены его извержением, как это произошло впоследствии с городами, расположенными в окрестностях Везувия и Этны. Это естественно-природное явление вовсе не зависит от нравов того или иного города. Поэтому-то совсем нелепо утверждать, что человеческое правосудие просто подражает, по вашим словам, правосудию небесному: тут должен говорить не юрист, а физик.
Разгоряченный своими мудрыми максимами, Кер-де-Фер решил, что пора воспользоваться выгодами положения, и стал осторожно приподнимать юбки нашей героини, а она, частью из страха, частью обольщенная этим красноречием, не решалась поначалу оказывать сопротивление. Понимая, что надо ковать железо, пока горячо, и что ему, быть может, недолго оставаться хозяином положения, лукавый мошенник, обхватив левой рукой зад Жюстины, старался приблизить его, чтобы удобней было метнуть свой раскаленный дротик, который держал наготове в правой. Жюстина же почти уступила, соблазненная возможностью спасти то, что представлялось ей самым значительным, и совсем не помышляла об опасностях, которыми грозили ее самому узкому месту поползновения такого здоровенного детины.
– Ага, – крикнул Кер-де-Фер, – я ее сцапал! – И мощным толчком он попытался загнать свой ужасающий инструмент в нежное крохотное отверстие, от которого он ждал стольких радостей.
Испустив отчаянный крик, Жюстина вскочила на ноги и кинулась к Дюбуа. Та спала, изнуренная обильными жертвами, принесенными на ее алтарь неутомимой троицей жрецов.
– В чем дело? – проворчала, пробуждаясь, закаленная в битвах шлюха.
– Ах, мадам, – пробормотала взволнованная, трясущаяся Жюстина, – Ваш брат… Он хочет…
– Ну да, я хочу женщину, – подхватил Кер-де-Фер, устремляясь за беглянкой и грубо оттаскивая ее от Дюбуа, – И я отделаю эту малышку через зад, чего бы это мне ни стоило!
Неизбежное надругательство ожидало Жюстину, если бы в этот момент с дороги не донесся шум движущегося экипажа. Кер-де-Фер, забыв ради профессионального долга об утехах плоти, разбудил тут же своих сообщников, и вся шайка полетела навстречу новому преступлению.
– Вот славно! – воскликнула Дюбуа, прислушиваясь с самым внимательным видом. – Слышишь крики, выстрелы? Ничего нет приятней для меня этих знаков победы. Они говорят, что все кончилось успехом наших и можно больше не тревожиться за них.
– Но, мадам, – возразила Жюстина, – ведь гибнут люди…
– Эка важность! Так уж повелось на земле. Разве на войне не погибают?
– Но там погибают за…
– Там погибают по куда менее важным причинам. Тираны обрушивают войны на головы народов ради своего тщеславия и властолюбия. Мы же нападаем на проезжих лишь из прямой нужды: нам надо на что-то жить. Закон жизни оправдывает нас.
– Но можно же зарабатывать, мадам… Научиться ремеслу…
– Ах, дитя мое! Это – наше, это то, чем занимаемся с детства, мы этому учимся, воспитываемся в законах этой профессии, а она, профессия эта, была известна самым первым народам на земле. Воровство было в почете по всей Греции. И сейчас среди многих народов его одобряют, уважают, признают как дело, требующее не только смелости, но великого умения, огромной ловкости. Словом, для любого народа, преисполненного энергии и предприимчивого, воровство – добродетель.
Дюбуа готова была еще долго купаться в красноречии, но продолжать ей помешало возвращение шайки с добычей. Они вели с собой пленника.
– Вот как я вознагражу себя за жестокость Жюстины, – проговорил Кер-де-Фер, выталкивая из тени на лунный свет красивого, как Амур, мальчика лет четырнадцати. – Я убил отца и мать, изнасиловал дочь, которой было не больше десяти лет, и будет вполне справедливо, если я воспользуюсь задом ее братца.
И с этими словами он потащил свою жертву за стог сена, служивший в эту ночь пристанищем для шайки. Послышались глухие, страдальческие возгласы, заглушённые вскоре сладострастными стонами и рычанием насильника. Затем раздался мучительный, душераздирающий крик, показавший всем, что осмотрительный злодей, не желая оставить в живых свидетеля своих преступлений, соединил сладострастие совокупления со сладострастием убийства. Через минуту он вернулся весь в крови.
– Ну вот, – сказал он, тяжело дыша, – Успокойся, Жюсти-на, теперь я насытился, и тебе нечего опасаться в ближайшее время. Пока зверь задремал во мне. Пора убираться отсюда, друзья мои, – повернулся он к своей шайке. – На нашем счету шестеро. Трупы их валяются на дороге, и мы недолго останемся здесь в безопасности.
Стали делить добычу. Долю Жюстины Кер-де-Фер определил в двадцать луидоров и заставил ее принять деньги, несмотря на все ее отвращение к такому дару. Затем все поспешно собрались и двинулись в дорогу.
Назавтра, полагая себя в лесах Шантийи в полной безопасности, принялись подсчитывать барыш. На крут вышло двести луидоров.
– Стоило убивать шестерых человек из-за такой ничтожной суммы, – проворчал один из разбойников.
– Успокойтесь, друзья мои, – поспешила начать свою речь Дюбуа. – Я имела в виду совсем не большую или меньшую сумму, когда, провожая вас на дело, наказывала не щадить никого из предназначенных вам в жертву путников. Дело шло только о нашей безопасности. В этих преступлениях виноват закон, а не мы с вами: воров казнят, и они вынуждены убивать тех, кто может их изобличить. Да и откуда, впрочем, вы взяли, – продолжала опытная злодейка, – что двести луидоров не стоят шести мертвецов? Смерть существ, предназначенных в жертву, от нас ничуть не зависит. Мы должны, следовательно, без всяких угрызений совести выбрать тот жребий, который сулит нам хоть самую ничтожную выгоду. Ибо даже ту вещь, что абсолютно для нас безразлична, мы, если мы разумны и вещь эта нам вполне понятна и ясна, бесспорно, должны заставить повернуться к нам наиболее благоприятной для нас стороной, не считаясь с тем, какой урон это может нанести другим. При этом мы должны помнить, что моральные выгоды довольно туманны и зыбки, а материальные – дело вполне реальное. Таким образом, не только двести луидоров абсолютно оправдывают убийство шести человек, но для этого было бы достаточно и тридцати су. Эти тридцать су мы можем вполне ощутить, а от шести мертвецов нам ни холодно ни жарко: нам все равно – остались ли эти люди жить или принесены в жертву. Больше того, мы, по врожденному людскому злодейству, всегда чуть-чуть радуемся бедам и несчастьям других.
Слабость физической природы, недостаток умственных способностей, проклятые предрассудки, в которых нас воспитали, бессмысленная боязнь религии и законов – вот что отвращает глупцов от дороги преступления, вот что мешает им наплевать на мораль. Но всякий энергичный, полный сил человек, наделенный душой деятеля, который, как это и должно, предпочитает себя другим, умеет находить равновесие между их интересами и своими, умеет не бояться смерти и презирать рамки закона. Такой человек понимает, что огромное множество несчастий других, которые он никак не может ощутить физически, не идет ни в какое сравнение с тем, пусть самым маленьким, наслаждением, которое выпадает ему. Наслаждение его радует – оно в нем, а преступление его не задевает – оно вне его. Итак, я спрашиваю, какой же человек не предпочтет то, что его радует, тому, что ему чуждо, совершенно не трогает, ради того, чтобы доставить себе удовольствие?
– О мадам, – Жюстина решилась, испросив разрешения, прервать Дюбуа, – не кажется ли вам, что ваш приговор написан для человека достаточно могущественного. Но как быть нам, постоянно гонимым всеми порядочными людьми, клейменными всеми законами? Должны ли мы принять такую систему, которая может лишь заточить меч, висящий над нашими головами? Не окажемся ли мы в печальном положении, выброшенными из общества? Можете ли вы предположить, мадам, что такие принципы нам более всего подходят? Как, по-вашему, может не погибнуть тот, кто из отчаянного, слепого эгоизма противопоставит себя совокупным интересам других? Потерпит ли общество в своей среде того, кто в одиночку решил выступить против всех? Может ли он надеяться обрести счастье и спокойствие, если, не признавая общественный договор, он не согласен поступиться долей своего благополучия, чтобы быть уверенным в остальном? Общество зиждется лишь на постоянном обмене благодеяниями: вот основа его существования, вот нити, связывающие его воедино. Тот же, кто вместо благодеяний предлагает ему лишь преступление, неминуемо вступит, если он более сильный, в жесточайшую борьбу, и так же неминуемо, если он слаб, окажется жертвой первого встречного. Вот положения, из которых следует недолговечность преступных сообществ. Да взять хотя бы нас, мадам, – продолжала Жюстина развивать свой тезис. – Как вы надеетесь поддерживать среди нас согласие, если советуете каждому заботиться лишь о собственных интересах? Можете ли вы, хотя бы сейчас, например, найти веский довод против намерения кого-нибудь из нас заколоть других, чтобы общая добыча досталась ему одному? Вот хвалебный гимн благородству и добродетели, показывающий, что без них не обойтись даже сообществу преступников, что и их связывают такие же узы.
– Какая жуткая софистика, – сказал Кер-де-Фер, – Вовсе не благородство скрепляет преступное сообщество, а та же корысть, тот же личный интерес. Фальшиво звучит, Жюстина, этот ваш хвалебный гимн благородству. Вовсе не из благородства я, будучи самым сильным в нашей компании, не перережу своих товарищей, чтобы поживиться за их счет, а лишь потому, что, оставшись один, я не смогу быть уверенным, что добуду то, что добываю с их помощью. И то же самое соображение удерживает их от того, чтобы покончить со мною. Говоря иначе, они не покидают меня из того же, как видите, эгоизма!..
Того, говорите вы, кто намерен в одиночку бороться против общества, ждет гибель. Но еще более уверенно я могу сказать, что погибнет и тот, который ради поддержания своей жалкой жизни согласится на нищету и униженность. То, что называют общественным интересом, есть по сути множество объединенных интересов, где частный интерес должен неизбежно в чем-то уступить, от чего-то отказаться ради согласия с интересом общим. От чего же предлагаете вы отказаться тому, у кого почти ничего нет? Вы сами признаете, что он в таком случае приобретает больше, чем может отдать. Неравноценность сделки сразу же убивает надежды на соглашение: общество не соглашается брать у него такую малость, дабы ничего ему не возвращать. Что же остается такому человеку?
Только признать такое общество несправедливым и бороться с ним. Но это, утверждаете вы, приведет к никогда не прекращающейся войне. Пусть так. Но разве не для этого мы рождены на свет? Не в этом ли наше предназначение? Люди по природе своей одиноки, завистливы, жестоки и деспотичны. Они стремятся все иметь, не желая ничего уступать, и жестоко сражаются за свои права и ради своих амбиций. И тут появляется законодатель и вещает: «Прекратите терзать друг друга, прекратите раздоры, уступите частицу принадлежащего вам другому, и мир, согласие воцарятся между вами». Я не собираюсь хулить эти предложения, но утверждаю, что есть две породы людей, которые не способны с ними примириться. Это, во-первых, люди могущественные и сильные – им нет нужды уступать что-либо, они и так счастливы и довольны. Во-вторых, самые слабые, которые видят, что с них требуют больше, чем они в состоянии дать. Но общество-то и состоит из людей более сильных и более слабых, и никто из них, пусть и по разным причинам, не может соблюдать общественный договор. Они предпочитают состояние всеобщей постоянной войны, где их сила и ловкость помогут им урвать побольше. А нам остается выбор между преступлением, которое может освободить нас от нищеты, и эшафотом, который избавит нас от тягот жизни. Вот я и спрашиваю: можно ли здесь сомневаться в выборе? Пусть-ка ваш ум подыщет доводы, опровергающие мои рассуждения.
– Да их тысячи, сударь, тысячи, – с живостью возразила Жюстина. – Разве эта жизнь – единственная цель человека? Не есть ли она лишь некий переход, ступени которого приводят, если поведение человека соответствует этому, к вечному счастью, бесценной награде за добродетель? На этот раз, как бы это ни показалось удивительным, я попробую согласиться с вами, допущу на минуту, что преступление может сделать счастливым человека, его совершившего. Но Божье правосудие – а Бог существует, как бы вы ни злословили на этот счет, – покарает злодея на том свете! Ах, пожалуйста, не возражайте мне, сударь, не отнимайте у несчастной последнюю надежду. Когда люди отворачиваются от нас, кто, кроме Бога, может отомстить за нас?
– Никто, Жюстина, решительно никто. Да и вовсе нет необходимости, чтобы несчастная, как вы говорите, была отомщена. Она надеется на это, потому что жаждет всей душой.
Она утешает себя, потому что ей так хочется. Это спасительная мысль, но она не становится от этого менее ложной. Более того, по сути, страдания несчастной обусловлены законами природы. Все ее унижения и ее скорби учтены общим замыслом. Истина эта должна заглушить угрызения совести в душах злоумышленников – таким единственным способом мать-природа делает нас проводниками своей воли. Когда ее тайные внушения толкают нас на совершения злодейств – значит, злодейства необходимы: она их хочет, она в них нуждается. В сумме злодеяний, следовательно, чего-то недостает. Но, поскольку вы, Жюстина, еще не однажды вернетесь к вашему Божественному призраку, постарайтесь наконец понять, что ваша религия – всего-навсего, милая глупышка, отношения между созданием и Создателем, хотя существование этого Создателя – пустая химера. Выслушайте же меня: я в последний раз попытаюсь вам объяснить это ясно и понятно…
– Надобно ее вы…ь, братец, – неожиданно вмешалась Дюбуа. – И хорошенько вы…ь. Яне знаю другого способа обратить ее в твою веру: просто невероятно, как быстро и легко женщина усваивает идеи того, кто ее е…т. Канделябр, в который вставляется светильник философии, называется совокупление. Все моральные и религиозные принципы отступают перед напором страстей. Ну так пробуди их в себе, и ты сумеешь ее перевоспитать.
Кер-де-Фер, заключив Жюстину в объятия, уже был готов немедленно претворить в дело мудрые советы сестры, когда цокот копыт заставил насторожиться всю шайку.
– К оружию! – воскликнул Кер-де-Фер, стараясь запрятать в штаны огромный орган, которым он уже вторично угрожал ягодицам несчастной Жюстины. – К оружию, дети мои, сейчас не время думать об утехах.
Они выскочили на дорогу, и уже через несколько минут в их лагере оказался новый пленник.
Приступили к допросу: кто он таков, чем занимается, что побудило его ехать в такую рань по заброшенной дороге. Путешественник отвечал, что он один из крупных лионских негоциантов, что зовут его Сен-Флоран, что ему тридцать пять лет, что он возвращается из Фландрии, куда ездил по торговым делам, что денег у него с собой мало, – все больше ценные бумаги, – что выехал он рано утром, чтобы не страдать от жары, рассчитывая к полудню добраться до Парижа, где ему предстояло заключить несколько сделок, задремал в пути, и лошадь занесла его в сторону от проезжей дороги. Рассказав все это, он попросил пощадить его жизнь и взять взамен все, чем он располагает.
Исследовали его бумажник добычу нельзя было назвать богатой. У Сен-Флорана имелось тысяч на сорок франков векселей, кое-какие безделушки и сто луидоров наличными.
– Друг мой, – произнес Кер-де-Фер, приставив пистолет к носу коммерсанта. – Вы сами понимаете, что за такую ничтожную сумму мы вас в живых оставить не можем: слишком велик риск, что вы на нас донесете.
– О сударь! – Жюстина бросилась к ногам красноречивого разбойника. – Умоляю вас в день моего вступления в ваше сообщество, не делайте меня зрительницей этого ужасного спектакля. Пощадите несчастного! Не отказывайте мне в первой же просьбе, с которой я к вам обращаюсь. – И, чтобы оправдать интерес, проявленный ею к лионскому негоцианту, Жюстина пустила в ход неожиданную для себя хитрость. – Услышав имя господина, я тут же подумала, что мы с ним, возможно, довольно близкие родственники. Не удивляйтесь, – повернулась она к пленному, – найдя родственницу в такой ситуации. Сейчас вы все поймете. Как родственнице, сударь, – продолжала она, все более воспламеняясь и глядя на Кер-де-Фера своими живыми глазами, – как родственнице подарите мне жизнь этого человека. А я в благодарность с полным самоотвержением буду делать все, что послужит вашим интересам.
– Вы знаете, на каких условиях я соглашусь, Жюстина, оказать вам эту милость, – отвечал Кер-де-Фер.
– Ну что ж, сударь! Я сделаю все, – воскликнула Жюстина, бросаясь то к жертве, то к палачу – Да, да, я согласна на все, только, умоляю, пощадите его.
– Ладно, – согласился Кер-де-Фер, – но я хочу, чтобы ты выполнила свое обещание немедленно. – И с этими словами он хватает обоих и тащит их в ближайшую заросль. Там он прикручивает пленника к стволу дерева и, поставив Жюстину под этим же деревом на четвереньки, задирает ей юбку. Однако, готовясь совершить новое преступление, он по-прежнему держит пистолет у горла бедняги негоцианта. Жизнь Сен-Флорана зависит от покорности Жюстины. А та, смущенная и трепещущая, обнимая дрожащими руками колени пленника, безропотно готова встретить все, что уготовано ей их общим палачом.
Но Бог в который раз отвращает от Жюстины беду. И природа, подчиняясь велению Бога, надсмеялась над страстью разбойника: его разгоряченный механизм ослабил свою деятельность, едва достигнув перистиля храма, и никакие усилия не могли ему придать необходимую энергию.
– А, черт побери! – закричал в бешенстве Кер-де-Фер, – Я слишком разгорячен. Но может быть, на меня так подействовала моя снисходительность: надо немедленно прикончить этого пройдоху, и я снова буду способен на все.
– О нет, нет, сударь, – произнесла Жюстина, быстро оборачиваясь к грабителю.
– Да не дергайся ты, сука, – Кер-де-Фер крепко стукнул кулаком по спине Жюстины. – Твои чертовы кривлянья мешают мне. Очень мне надо видеть твое лицо, когда меня интересует только твой зад.
Он снова принялся за дело, и снова поражение.
– Ладно, – примирился со своей участью Кер-де-Фер, – Я слишком устал сегодня. Надо отдохнуть, пошли обратно.
Все трое вернулись к тесному кружку разбойников. И там Кер-де-Фер счел нужным еще раз предупредить Жюстину.
– Жюстина, – сказал он, – помните о вашем обещании, если хотите, чтобы я не забыл о своем. Я смогу раздавить этого червяка и завтра, раз уж на сегодня я его помиловал. Ребятки, – обратился он к сообщникам, – вы передо мной отвечаете за обоих. А вы, Жюстина, ложитесь рядом с моей сестрой. Я вас позову, когда настанет время. Но помните, что этот болван может жизнью поплатиться за вашу неверность.
– Спите спокойно, сударь, – отвечала Жюстина, – та, которая так благодарна вам за великодушие, думает прежде всего о том, как бы получше расплатиться с вами.
Однако не таковы вовсе были подлинные намерения Жюстины. Вот вам один из тех случаев, когда сама добродетель вынуждена опереться о порок Жюстина решила, что если ей когда-нибудь и позволительно коварство, то именно сейчас она должна воспользоваться такой возможностью. Ошибалась ли она? Мы это допускаем. Положение было щекотливым, это правда: ведь первейший долг порядочности заключается в несокрушимой верности данному слову, и никогда самое доброе дело, оплаченное ценой преступления, не сумеет выглядеть благородным. Ей предложили сохранить жизнь человеку ценой своего тела, и, не прими она эти условия или постарайся обмануть, дни этого человека были бы сочтены. И я спрашиваю, не совершила бы она еще большего, чем уступчивость пороку, зла, подвергая риску жизнь несчастного?
Как бы то ни было, наши доверчивые разбойники пили, ели, веселились и, наконец, погрузились в сон, оставив своего пленника без присмотра. Жюстина устроилась рядом с Дюбуа, которая тоже забылась в пьяном сне.
Увидев, что все благополучно заснули, Жюстина обратилась к Сен-Флорану.
– Сударь, – сказала она, – огромное несчастье забросило меня к этим людям. Они мне отвратительны, и я проклинаю ту роковую минуту, что привела меня в их логово. По правде говоря, я не имею чести быть вашей родственницей, – продолжала Жюстина, – Моего батюшку звали… – И она назвала фамилию покойного отца.
– Как, мадемуазель! – прервал ее Сен-Флоран, – Вы, оказывается, из фамилии…
– Да, сударь.
– Тогда само Небо подсказало вам эту хитрость. Но вы никого не обманывали, Жюстина, вы и впрямь приходитесь мне племянницей. Моя первая жена, которую я потерял пять лет назад, была сестрой вашего батюшки. О, я поздравляю себя с этим счастливым случаем. Знай я о ваших несчастьях, я бы поспешил вам на помощь.
– Сударь, сударь, – возразила Жюстина с горячностью, – совсем не потому попыталась я вас спасти. О сударь, эти чудовища заснули, нам надо бежать, воспользуемся случаем. – Говоря это, она заметила небрежно торчащий из кармана одного из разбойников бумажник своего дядюшки, потянулась к нему, вытащила осторожно из кармана.
– Бежим, сударь, – продолжала она. – Бросим все остальное, больше нам ничего не удастся спасти без риска. О мой дорогой дядюшка! Я предаю себя в ваши руки, примите участие в моей судьбе, станьте покровителем моей неопытности. Я в вашей власти, давайте же спасемся!
Трудно передать, что испытывал в эти минуты Сен-Флоран. Ожидание возможного спасения, тяжесть, которую ему предстояло взвалить на свои плечи, и страх перед разбойниками – все это привело его в такое смятение, что он не мог произнести ни слова.
– Как! – воскликнут иные из наших читателей. – Не должен ли был этот человек проникнуться нежнейшей признательностью к своей благодетельнице? Мог ли он думать о чем-либо другом, чем броситься перед нею на колени? Ну что ж, признаемся мы тогда: Сен-Флорану куда более пристало оставаться среди злодеев и мошенников, чем быть вырванным из их рук с помощью своей очаровательной и благородной племянницы. Более того, мы опасаемся, что Жюстина, избежав опасностей, которыми ей грозило соседство Дюбуа и других разбойников, в скором времени подвергнется еще большим угрозам, доверившись своему дорогому дядюшке! Да, да, именно с его стороны и после такого благодеяния, оказанного ему только что! Ах, разве нет достаточно испорченных натур, которых не сдержать никакими путами. Многочисленные препятствия только разжигают их! Мы не будем указывать на факты: довольно будет знать, что Сен-Флоран, будучи в душе немного распутником и большим негодяем, не мог не прийти в возбужденное состояние при виде того весьма пикантного зрелища, которое открылось ему в столь грозные минуты. Прелести Жюстины, которыми природа щедро украсила ее словно бы с единственной целью – толкать людей на преступления, не могли не заронить в его душе преступных замыслов.
Между тем наши беглецы устремились поспешными шагами, не говоря ни слова, подальше от опасного места, и первые лучи Авроры застали их уже вне опасности, хотя из лесу они еще и не вышли. И вместе с проблесками денницы, заигравшими на восхитительных чертах Жюстины, в сердце ее спутника все сильнее разгоралась нечестивая кровосмесительная похоть. Жюстина представала перед ним феей цветов, раскрывающей по велению первых солнечных лучей венчики роз, и даже самим солнцем, озаряющим ночную темь. А она между тем шла впереди быстрым шагом, лицо ее разрумянилось, прекрасные волосы в беспорядке рассыпались по плечам, стан являлся взорам Сен-Флорана во всем своем великолепии. Время от времени она оборачивалась к нему с очаровательной улыбкой, сулившей, казалось, так много.
Говорят, что глаза – зеркало души. Пример Сен-Флорана опровергает это утверждение: самые черные замыслы гнездились в его душе, самыми нечестивыми желаниями была обуреваема она, но глаза Сен-Флорана светились мягкостью и благодушием. В них Жюстина могла бы прочитать лишь искреннюю радость от обретения такой несчастной и такой прелестной племянницы. А между тем взгляд Сен-Флорана, острый и проницательный, отмечал все прелести Жюстины и проникал сквозь все покровы.
Вот в таком состоянии наши беглецы достигли Люзар-ша. В первом же встреченном трактире они остановились для отдыха.