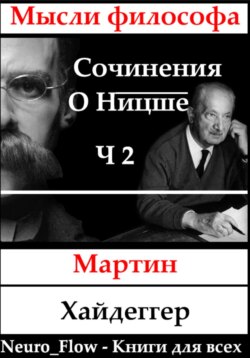Читать книгу Сочинения о Ницше часть 2 – Записи о Ницшеанстве - Мартин Хайдеггер - Страница 3
Записи, относящиеся ко времени написания «Заратустры»
(1883-1884 гг.)
ОглавлениеОтносящиеся к этому периоду записи также находится в XII томе, а именно на страницах 369-371. Некоторые рассеянные замечания, лишь косвенным образом намекающие на мысль о вечном возвращении, можно было бы тоже отнести сюда, как и довольно обширный «материал», состоящий из изречений, замыслов и указаний периода подготовки к «Заратустре».
Все, что издатели намеренно объединили под заголовком «Вечное возвращение», насколько мало по объему, настолько значительно по содержанию. Если мы сравним некоторые немногочисленные отрывки, в основном состоящие из одного предложения или вопроса, с теми, которые относятся к предыдущим временным периодам, в глаза сразу бросится отсутствие «естественнонаучных доказательств». Из этого делают вывод, что Ницше сам успел отказался от них. Тем не менее даже в позднейших записях мы находим, на первый взгляд, естественнонаучные положения. Однако мы должны остерегаться вычитывать из них физические формулы, равно как не отказываться от того, что не является естественнонаучным доказательством.
Как истолковать следующее предложение: «Жизнь сама создала эту тяжелейшую для жизни мысль, она хочет одолеть свое высшее препятствие!» (n. 720). Здесь речь идет не об «этическом» и «субъективном» значении и влиянии учения, а о принадлежности мысли самой «жизни». «Жизнь» – это воля к власти. Сущее как становящееся само созидает и разрушает; как созидающее оно заранее проецирует себе перспективы своих преображающих возможностей. Высшее созидание есть созидание высшего препятствия, то есть такого, которое самым жестким образом противостоит самому созиданию и, следовательно, максимально сильно и максимально широко противостоит возрастанию жизни. Однако эту мысль о вечном возвращении жизни труднее всего осмыслить, потому что через нее жизнь легче всего утрачивает доверие к себе самой как созидающей и склоняется к простому уходу и ускользанию от всего и вся. В приведенном предложении говорится о том, что вечное возвращение возникает из сущности самой «жизни», и тем самым оно заранее ограждается от произвольного его понимания как какой-то фантазии и одного лишь «личного исповедания веры». Кроме того, из этого места становится ясно, каким образом учение о вечном возвращении того же самого как непрестанном становлении относится к старому учение о вечном течении всех вещей, которое обычно связывают с именем Гераклита.
Принято, даже ссылаясь на слова самого Ницше, отождествлять его учение о вечном возвращении того же самого с учением Гераклита и характеризовать его философию как «гераклитство». Теперь не вызывает никакого сомнения тот факт, что Ницше чувствовал свое родство с учением Гераклита, а именно с учением в том его виде, как его представлял он сам со своими современниками. Где-то около 1881 года, непосредственно перед появлением мысли о возвращении, он особенно часто говорит о «вечном течении всех вещей» (XII, 30, n. 57) и даже называет учение о «течении вещей» «последней истиной» (n. 89), той истиной, которая больше не предполагает вбирания в себя чего-либо еще. Это означает, что учение о вечном течении всех вещей в смысле непрекращающегося непостоянства больше не может считаться истинным; в нем человек не может удерживать себя как в истинном, потому что тогда он ввергается в бесконечные перемены, непостоянство и полное разрушение; потому что тогда что-либо прочное и тем самым истинное остается просто невозможным.
Непосредственно перед появлением мысли о вечном возвращении того же самого Ницше на самом деле воспринял это основное отношение к сущему в целом как к вечному течению. Однако если, как это оказалось, данная мысль является подлинной верой, сущностным себя-удержанием в истинном как уловленном, тогда мысль о вечном возвращении того же самого улавливает это вечное течение, тогда эта последняя истина вбирается в нечто иное (ср. первые наброски, 1881 г.). Отсюда становится ясно, почему там делается такой акцент на этом «вбирании». Теперь же учение о вечном течении вещей и его разрушительной сущности преодолено. Вообще с момента появления учения о вечном возвращении с ницшевским «гераклитст-вом» начинает твориться нечто странное. Об этом достаточно ясно говорит запись, которая относится ко времени написания «Заратустры» (n. 75):
«Я учу вас освобождению от вечного течения: течение вновь и вновь возвращается в себя, и снова и снова вы вступаете в ту же самую реку, как те же самые (die Gleichen)».
Приведенный отрывок представляет собой сознательный выпад против той мысли, которая в греческой философии приводилась в связи с Гераклитом, то есть как определенное толкование его учения. В соответствии с этим толкованием мы по причине непрестанного поступательного течения и убегания всех вещей никогда не можем вступить в одну и ту же реку. По отношению к этому толкованию учение Ницше характеризуется как «освобождение от вечного течения». Речь идет не об упразднении становления и застывании, а об освобождении от одного лишь бесконечного «и так далее всегда». Становление сохраняется как становление и все же в это становление привносится постоянство, то есть, в греческом понимании, бытие.
Теперь сущее в целом тоже представляет собой течение, протекание в смысле становления, однако в нем возвращение того же самого столь существенно, что именно оно прежде всего и определяет характер этого становления. Начинает очерчиваться определенное представление о том, что называют «бесконечным процессом». «Бесконечный процесс можно мыслить только как периодический» (n. 727). Для конечного мира, находящегося в бесконечности действительного времени, поскольку он теперь все еще «становится», совершение событий возможно только по принципу возвращения и тем самым круговорота. При этом отдельные события надо представлять не как внешним образом нанизанные друг на друга, когда они со свистом летят в пустом круговращении: каждое из них надо понимать как своеобразное эхо, доносящееся из целого и вновь улетающее в него.
«Разве ты этого не знаешь? В каждом поступке, который ты совершаешь, повторяется и сокращается история всего происходящего» (n. 726).
Хотя на первый взгляд через учение о вечном возвращении во все сущее и в человеческое поведение вторгается безмерное и полное безразличие, на самом деле мысль мыслей привносит в сущее на каждое его мгновение высшую остроту и силу принятия решения.
Ницше был настолько обеспокоен тем, будто через мысль о вечном возвращении все сущее якобы становится безразличным, что был вынужден серьезно обдумать возможные последствия этого учения:
«Страх перед последствиями учения: быть может, лучшие натуры гибнут от этого? А худшие принимают его?» (n. 729).
Худшие натуры принимают его, утверждаются в нем и с его помощью утверждают, что сущее впадает во всеобщее безразличие и неразборчивость – и все это в результате учения, которое на самом деле хочет быть величайшей тяжестью и избавить человека от посредственности. Однако поскольку первое впечатление невозможно устранить, поскольку оно самым назойливым и неотвязным образом постоянно заявляет о себе, оно первое время будет определять способ удержания-истинным этого учения:
«Поначалу учение о возвращении будет улыбаться сброду, холодному и не претерпевающему особой внутренней нужды. Поначалу самый расхожий инстинкт жизни дает свое согласие. Великая истина лишь в последнюю очередь завоевывает себе высших людей: это страдание истинных» (n. 730; ср. n. 35).
Если мы обозрим то немногое, что в период написания «Заратустры» представляло собой ясные размышления об учение о вечном возвращении, мы увидим, что по своему содержанию оно весьма значительно; все существенное облечено в самую строгую форму из немногих предложений и четко поставленных вопросов. В этой тяжелейшей мысли образно-поэтическое мышление Ницше обретает маятник для своего самого широкого размаха, маятник, который наделяет его непрестанной устремленностью к середине и во всяком смятении вопрошания и требования дает ему радостное спокойствие привыкшего к страданиям победителя. Покой и успокоение Ницше обретает и по отношению к вопросу о возможном воздействии своего учения.
«Величайшая мысль действует очень медленно и далеко не сразу! Ее ближайшее воздействие – замена веры в бессмертие: она умножает добрую волю к жизни? Быть может, она не истинна: так пусть же другие сражаются с нею!» (XII, 398; 1883).
Исходя из последнего замечания можно было бы прийти к выводу, что Ницше сам сомневался в истине этой мысли и не принимал ее всерьез, обыгрывал ее только как возможность. Однако такой вывод был бы слишком поверхностным. Да, Ницше сомневался в этой, как и во всякой другой важной мысли, ибо таков стиль его мышления, однако отсюда нельзя делать вывод о том, что саму мысль он не принимал всерьез; скорее вывод таков: он относился к ней всерьез, снова и снова пропускал ее через свое вопрошание, проверял и таким образом вовлекал себя самого в свое мышление и приходил к познанию того, что существенное в здесь мыслимом есть возможность. Фраза «быть может, она неистинна» достаточно ясно говорит о таком возможностном характере данной мысли. Ницше знает только такие мысли, с которыми приходится бороться; всегда сохраняется другой вопрос: остается ли он властелином и победителем этой мысли или с ней должны бороться другие?