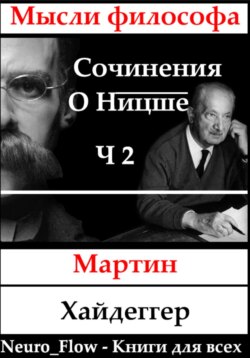Читать книгу Сочинения о Ницше часть 2 – Записи о Ницшеанстве - Мартин Хайдеггер - Страница 6
Область мысли о возвращении: учение о возвращении как
преодоление нигилизма
ОглавлениеНаш анализ мысли о возвращении был бы слишком поверхностным, то есть мы не продумывали бы ее вообще, если бы всюду не возникал вопрос об этой области. Под «областью» мысли о вечном возвращении мы понимаем единый контекст того, откуда эта мысль определяется, и того, в каком направлении она сама является определяющей; эта область подразумевает единство сферы ее происхождения и сферы ее господства. Вопрос об этой области должен наделить мысль мыслей ее определенностью, ибо, будучи максимально всеобщей мыслью, она легко осмысляется только как всеобщая, то есть растворяющаяся во всеобщем.
Поначалу кажется, что всякая мысль, осмысляющая сущее в целом, является однозначно и окончательно определенной в своей области, поскольку выражение «в целом» понимается как некая «всеобъемлющая» сфера. И тем не менее это « в целом» – всего лишь слово, которое не столько ставит и раскрывает существенный вопрос, сколько затуманивает его. Когда мы говорим о сущем в целом, фразу «в целом» всегда надо понимать как некое вопросительное слово, как нечто вызывающее сомнение, заслуживающее вопроса: каким образом это «в целом» определено, как обосновано определение и как полагается основа для такого обоснования? Поэтому каждый раз при возникновении любой мысли о сущем в целом вопрос об упомянутой области становится актуальным.
Однако в ницшевской мысли о сущем в целом необходимо со-мыслить и нечто иное, особенное, причем не как некое позднейшее дополнение, но как предваряющее предначертание ее возможной формы. Это особенное, при том условии, что эта мысль является основной мыслью философии Ницше, затрагивает ее в самом ее существе. Философия в своем внутреннем движении мысли есть движение против, однако таким движением является, наверное, всякая философия по отношению ко всякой другой. Тем не менее в мышлении Ницше движение «против» имеет особый смысл. Это мышление не хочет отвергнуть то, против чего оно мыслит, и заменить его чем-то другим. Мышление Ницше хочет переиначить, но то, с чем соотносится такое переиначивание, и такое движение «против», представляют собой не какое-то предшествующее или даже современное направление какой-либо философии, а всю западную философию, поскольку она остается формообразующим началом в истории западноевропейского человека.
Общая история западной философии толкуется как платонизм. Философия Платона выступает как критерий для понимания как всей послеплатоновской, так и доплатоновской философии. Этот критерий остается определяющим, поскольку для возможности сущего в целом и для человека как сущего в этом целом философия полагает определенные условия, в соответствии с которыми определяется лицо сущего. То, что имеет силу в первую и последнюю очередь, то, что вследствие этого является условием «жизни» как таковой, предстает как нечто действенное, которое Ницше называет ценностью. Подлинно определяющее есть высшие ценности. Таким образом, если философия Ницше хочет стать движением, направленным против всей прежней западноевропейской философии в упомянутом смысле, она должна направить себя против утвержденных в этой философии высших ценностей. Однако поскольку ницшевское противодвижение (Gegenbewegung) имеет характер переиначивания, оно, направляя себя против высших ценностей, становится «переоценкой всех ценностей».
Противодвижение такой значимости и такого притязания должно быть необходимым. То, что влечет к нему, не может покоиться на расхожем предоставлении и мнении о том, что необходимо преодолеть. То, против чего это противодвижение хочет начаться, само должно быть достойным такого начинания. Поэтому в противодвижении такого стиля одновременно сокрыто величайшее признание значимости противоборствующей стороны и самое серьезное ее восприятие. Такая оценка говорит о том, что это враждебное основательно продумано, то есть выстрадано во всей его силе и значении. В своей необходимости противодвижение должно проистекать из такого изначального опыта и сохранять свою укорененность в нем.
Если вечное возвращение того же самого является основной мыслью подлинно ницшевской философии, тогда эта мысль мыслей выступает как противомысль (Gegengedanke). Сущность этой мысли и ее осмысления есть удержание-истинным в ранее разъясненном смысле слова: вера. Поэтому мысль о вечном возвращении того же самого есть противоборствующая вера, противовера (Gegenglaube), несущий и ведущий настрой во всем противодвижении. Эта вера сама укоренена в том опыте предыдущей философии и западноевропейской истории вообще, из которого берет свое начало необходимость противодвижения как переиначивания в смысле переоценки.
Каков этот опыт? Какая переживаемая в нем нужда вынуждает к повороту, необходимому повороту в сторону переоценки и, следовательно, полаганию новых ценностей? Речь идет о том событии в истории западноевропейского человека, которое Ницше характеризует словом «нигилизм». Значение этого слова нельзя выводить из расхожих представлений политико-мировоззренческого свойства: мы должны определять его из того и только из того, что понимает под ним сам Ницше. В опыте нигилизма коренится и вращается вся его философия, но в то же время она стремится прояснить и осмыслить значение этого опыта. По мере раскрытия ницшевской философии растет понимание сущности и силы нигилизма, возрастает нужда и необходимость его преодоления.
Итак, картина ясна: понятие нигилизма можно осмыслять только при одновременном усвоении основной и противоборствующей нигилизму мысли ницшевской философии. Поэтому имеет силу и обратное: основную мысль, то есть учение о вечном возвращении, можно понять только из опыта нигилизма и знания его сущности. Таким образом, для того чтобы исследовать всю область тяжелейшей мысли, рассмотреть в ней сферу происхождения и господства этой мысли, мы должны соотнести с предварительной характеристикой ее содержания и способа сообщения характеристику нигилизма как явления.
Опираясь за значение данного слова, мы можем сказать, что нигилизм – это событие или учение, в котором речь идет о nihil, о ничто. Формально говоря, ничто есть отрицание нечто, причем всякого нечто. Все нечто составляет сущее в целом. Полагание ничто есть отрицание сущего в целом. Таким образом, нигилизм явно или скрыто говорит: сущее в целом есть ничто. Но есть основания считать, что именно это положение Ницше опасается использовать как выражение сущности нигилизма.
То, что определяет сущее в целом, есть бытие. Когда Гегель в начале своей всеобщей метафизики («Наука логики») выдвигает положение о том, что бытие и ничто есть одно и то же, это положение можно легко выразить в такой форме: бытие есть ничто. Однако в этом гегелевском тезисе так мало нигилизма, что с точки зрения Ницше он как раз содержит в себе нечто от «величественного начинания» («Der Wille zur Macht», n. 416) немецкого идеализма, а именно от стремления преодолеть нигилизм. Стремление всюду, где всплывает «ничто» (и даже там, где оно упоминается в существенной связи с учением о бытии), сразу же заводить речь о нигилизме и затем самому этому слову придавать окраску «большевизма» представляет собой не только поверхностный способ мышления, но и бессовестную демагогию. С помощью таких дешевых приемов мысль Ницше не затрагивается и не постигается – ни в том, что он понимает под нигилизмом, ни в его собственном нигилизме, ибо свое собственное мышление Ницше понимает как нигилизм, поскольку оно проходит через «законченный нигилизм», а сам он есть «первый законченный нигилист Европы, который, однако, сам нигилизм уже до конца изжил в себе, – который имеет его за собой, под собой, вне себя» («Der Wille zur Macht», Vorrede n. 3).
[Подробное разъяснение и обсуждение сущности нигилизма дается во второй книги данной публикации].
Только в том случае, если мы знаем о событии нигилизма и не забываем о том, что Ницше в горизонте своего мышления максимально полно пережил и продумал это явление как основной факт истории, нам открывается область, то есть сфера происхождения и господства, мысли о вечном возвращении того же самого. Эта мысль осмысляет сущее таким образом, что из него до нас доносится непрестанный зов, заставляющий выбирать: или мы хотим, чтобы нас просто влекло вперед, или хотим стать творцами, то есть, в первую очередь, хотим средств и условий, позволяющих снова ими стать.
Насколько страшно вглядываться в нигилизм, настолько тяжело осмыслять тяжелейшую мысль и подготавливать появление тех, кто ее осмысляет истинно и творчески, ибо самое тяжелое заключается в споре с нигилизмом, тем более что и мысль о возвращении постольку нигилистична, поскольку в ней больше не мыслится никакая конечная цель для сущего. В каком-то отношении в этой мысли увековечивается тщетность («напрасно»), увековечивается отсутствие конечной цели, и в этом смысле она есть самая парализующая мысль.
«Продумаем эту мысль в ее самой ужасной форме: бытие, как оно есть, без смысла и цели, но неизбежно возвращающееся, без завершения в ничто: „вечное возвращение".
Это крайняя форма нигилизма: ничто («бессмысленное») вечно!" («Der Wille zur Macht», n. 55; 1886-1887).
Однако если мы только так понимаем мысль о возвращении, мы понимаем ее лишь наполовину и, таким образом, не продумываем вообще, то есть не постигаем того, что есть в ней от мгновения и принятия решения. Только тогда, когда происходит это постижение, данная мысль осмысляется в своей области, и для Ницше она есть преодоление нигилизма. Однако как преодоление она предполагает нигилизм в том смысле, что со-мыслит его и продумывает до его последних пределов. Поэтому мысль о возвращении тоже надо осмыслять «нигилистично» и только «нигилистично», хотя теперь это означает: мысль о возвращении надо осмыслять только в со-осмыслении нигилизма как чего-то преодолеваемого и в воле к творчеству уже преодоленного. Только тот, кто вымысливает (hinausdenkt) мысль, находясь в крайней нужде нигилизма, может также осмыслять преодолевающую мысль как взывающую из этой нужды к повороту и потому самой собою делающую его необходимым.