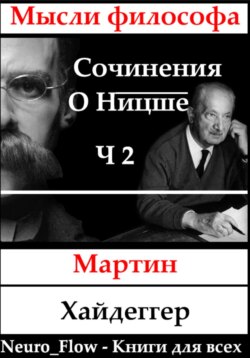Читать книгу Сочинения о Ницше часть 2 – Записи о Ницшеанстве - Мартин Хайдеггер - Страница 5
Форма учения о возвращении
ОглавлениеПрежде чем мы попытаемся определить, какую форму имеет учение о возвращении, нам надо спросить, имеет ли оно какую-либо форму вообще, ибо если предыдущий обзор что-то и выявил, так только то, что это учение имеет множество форм или, точнее говоря, лишено формы, аморфно. Однако что мы понимаем под формойучения и почему спрашиваем о ней? Если бы эта форма представляла собой лишь подбор выражающих учение положений и отрывков, сделанный задним числом с точки зрения максимального воздействия этого учения или наиболее легкого его понимания, тогда вопрос о ней имел бы второстепенное значение. Однако мы спрашиваем о форме для того, чтобы за первым обзором уловить нечто иное и более существенное в этом учении.
Под формой учения мы понимаем предначертанное его собственной истиной внутреннее строение самой этой истины. Под строением истины подразумевается не обосновывающая ее последовательность положений, а встроение (Einbau) открытости сущего в целом в само сущее, таким образом, что только благодаря этому сущее как таковое обнаруживается и упорядочивается. Имеет ли учение Ницше такую форму? На этот вопрос нельзя ответить прямо, тем более что понимаемая таким образом форма могла бы существовать и без внешнего ее представления. Если с формой всегда связано основание определения, в силу которого истина утверждается на своем собственном основании, если, таким образом, форма возможна только как восходящая к основной позиции, существование которой мы, следуя нашему пути, предполагаем в мышлении Ницше, тогда в его философии будет живым именно то, что делает возможным форму и требует ее.
Если мы посмотрим назад, мы увидим, как, по меньшей мере, опосредствованно, в мысли Ницше всюду обнаруживается самобытный закон истины. Это видно из того, что все определения его учения, стремящиеся вместить этого философа в рамки расхожих представлений, терпят неудачу. Проводится ли различие между «естественнонаучным» содержанием и «нравственным» значением или между его «теоретической» и «практической» сторонами, заменяются ли эти различия на более популярное на сегодняшний день различие между «метафизическим» смыслом и «экзистенциальной» притягательной силой, которое от этого не становится ничуть яснее,– в любом случае налицо стремление опереться на признание некоей двусторонности, где любая сторона оказывается ущербной: признак нарастающего смущения, в существовании которого, правда, не хотят признаться. Таким образом, самое существенное и самое характерное не обретает свободы, но сразу же втискивается в систему избитых и затасканных представлений. Точно так же обстоит дело и с (опять-таки выдержанным в ином ракурсе) различием между «поэтическим» и «прозаическим» изложением учения или его «субъективной» и «объективной» сторонами. Однако мы уже уловили важный момент, если, вникая в это, пусть еще смутно и неясно пережитое, «учение», подмечаем, что упомянутые ракурсы толкования остаются сомнительными и искажают наше видение.
Ближайшим следствием отказа от этого удобного круга представлений станет наше стремление обрести тот горизонт, на котором вспыхнут очертания этой формы или, на первый случай, обозначатся основания для определения ее закона. Но как нам усмотреть этот горизонт? Он может появиться только из взгляда на всю целокупность ницшевской философии, а именно на целое, как оно само согласно собственному закону пробивается к своей собственной форме. Но где мы ощущаем эту влекомость, эту динамику столкновений и крушений? Ответ: в усилиях Ницше, направленных на его «главное произведение». В незавершенности планов должно обнаруживаться, что сохраняется, что отбрасывается, а что преобразовывается; здесь должны выявиться те полюса, которые как бы концентрирую всю тревогу его мышления.
Три взаимосближающихся полюса, вокруг которых вращаются все тревожные мысли, связанные с отысканием должной формы, мы обнаруживаем благодаря трем заголовкам, которые выбираются в качестве заглавия для задуманного труда, причем отвергнутый заголовок не вытесняется окончательно: вечное возвращение, воля к власти, переоценка всех ценностей. Структура этих трех заголовков, а именно структура, предначертанная ими самими, есть форма, искомая, ищущая себя форма. Все три заголовка подразумевают целое этой философии и ни один не отражает его целиком, потому что форму этой философии нельзя выстроить согласно какому-то одному ракурсу.
Хотя мы не можем сразу уловить какое-то одно ясное предначертание структуры в которой «вечное возвращение», «воля к власти» и «переоценка всех ценностей» одинаково изначально образуют единство, мы с полной уверенностью можем признать, что сам Ницше видел ясную возможность такого оформления, ибо, не будь такого видения, оставалась бы непонятной неколебимость основной установки, которая проглядывает через все многообразие задуманных планов.
Однако эти планы и сухое нанизывание друг на друга заголовков и номеров только в том случае что-то говорят, когда они пронизаны и наполнены светом знания о том, что они хотят преодолеть. Такого знания у нас нет. Понадобятся десятилетия, чтобы оно сложилось, и поэтому наша попытка путем сравнения этих планов обнаружить образующий их закон не пойдет дальше искусственно созданного подхода, который берет на себя смелость извне сформировать «систему» Ницше. Для того чтобы приблизиться к нашей цели, чтобы, прежде всего, четко ее обозначить, нам надо выбрать некий предварительный путь, став на который мы в какой-то мере сумеем себя предохранить от опасной гулкой пустоты заголовков.
Нам надо постараться отыскать внутреннее строение истины мысли о вечном возвращении того же самого как основной истины философии Ницше. Истина этой мысли касается сущего в целом. Однако так как эта мысль по своей сущности хочет стать величайшей тяжестью и, следовательно, определять человеческое бытие и, таким образом, нас самих посреди сущего в целом, истина этой мысли только тогда является истиной, когда она есть наша истина.
Нам могли бы возразить, сказав, что, мол, это само собой разумеется и сразу же ясно из того, что мысль о вечном возвращении того же самого затрагивает все сущее и, следовательно, также и нас, которые, как отдельные его проявления и, быть может, как пылинки, принадлежат этому сущему и вращаются в нем. Однако сама мысль есть только тогда, когда мыслящие – есть. Поэтому они есть нечто большее и отличное от простых случаев осмысленного. Те, кто осмысляют эту мысль, не есть и никогда не были просто какими-то людьми, появляющимися где-то и когда-то. Осмысление этой мысли имеет свою глубоко самобытную историческую необходимость и определяет даже историческое мгновение. Только из этого мгновения появляется вечность осмысленного в этой мысли. Таким образом, то, что охватывает мысль о вечном возвращении того же самого, область, к которой эта мысль относится и которую властно пронизывает и только так и образует, описывается не путем одной лишь суммирующей констатации, когда все сущее в своей области уподобляется орехам в мешке. Область этой мысли требует предварительного определения; взирая не нее, мы раньше всего надеемся усмотреть что-либо от той структуры, которую истина этой мысли сама требует как свою форму.