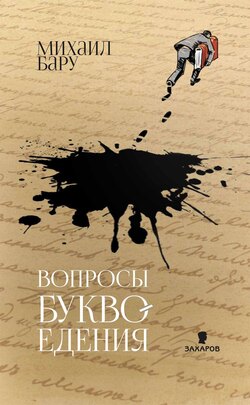Читать книгу Вопросы буквоедения - Михаил Бару - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Дедушка Герасим Сергеевич
Оглавление* * *
Храм литературы где-нибудь в пыльном и неухоженном райцентре. Не в виде библиотеки, а в виде храма. Приход маленький, почти нищий. Едва хватает на отопление и на масло для лампад перед книгами и портретами. Чаще всего приходят школьники перед сочинениями и экзаменами по литературе. На паперти местный поэт – полусумасшедший неопрятный старик с потрепанными книжками своих стихов, которые он норовит всучить каждому проходящему мимо. Все его знают и потому уворачиваются. Незнакомого человека он еще может обмануть. Подойдет и скажет:
– Подайте на хлеб бедному поэту в честь праздника.
– Да какой же сегодня праздник? – спросит незнакомый человек.
– Сегодня, – ответит старик, – сто семьдесят два года три месяца и пять дней с того дня, как Николай Васильевич закончил писать шестую главу «Мертвых душ», – и тотчас же начнет читать нараспев: – Зелеными облаками и неправильными трепетолистными куполами лежали на небесном горизонте соединенные вершины…
Незнакомый человек даст ему по глупости десятку или две – так старик потом и не отвяжется, достанет свои книжки и станет предлагать их даром, будет совать их ему в карманы и читать свои стихи, от которых уши вянут.
Настоятельница храма – сухая, любящая заламывать руки дама очень средних лет в очках с большими диоптриями. Пальцы у нее унизаны серебряными кольцами, и на груди висит ладанка с портретом Льва Толстого. В свое время она окончила Литературный институт и даже собиралась принять постриг в Пушкинском доме, чтобы на всю жизнь отдаться комментариям к «Слову о полку Игореве», но не сложилось – кому-то из знакомых она сдуру призналась, что любит стихи то ли Асадова, то ли Евтушенко, то ли того и другого вместе. И пошло-поехало… Короче говоря, рада была уехать в этот медвежий угол настоятельницей.
Служб в храме немного, прихожане на храм жертвуют неохотно, а всё норовят принести вместо денег старые, ненужные книги и портреты писателей, вырезанные и журнала «Огонек». Школьники из мелочи, которую им дают родители, купят свечку-другую или листок с молитвой пушкинских старцев. Какой от этого доход… У одной из парных кружек, тех самых, из которых пьют с горя, облупилась почти вся эмаль на портрете Арины Родионовны, а на замену денег нет и неизвестно когда будут. Потому и ходит настоятельница по домам служить требы – приглашают ее то почитать помирающей старухе рассказ «О любви» или стихи «В шумном платье муаровом…», то заговорить на отличную оценку сочинение двоечника, написанное его мамашей, то изгонять бесов из одержимого Достоевским, а то читать всю ночь спящей женщине на сносях стихи Пушкина и Лермонтова, чтобы ребенок родился…
Однажды, воспользовавшись тем, что она плохо видит, а в сумерках и вовсе слепая, положили перед настоятельницей собаку, завернутую в одеяло. Та лежала, лежала да как гавкнет в тот самый момент, когда «и пусть она вас больше не тревожит…». Насилу ее потом отпоили калгановой настойкой. Не собаку, конечно, а настоятельницу.
В самом храме пусто, пыльно и сладко пахнет старыми книгами. Только в тургеневском приделе девочка лет десяти вымаливает у портрета Ивана Сергеевича щенка или котенка, прижимая к груди тонкое и ветхое, еще советское, издание «Муму». Девочка молится горячо, голос ее дрожит, она путает слова и называет писателя милым дедушкой Герасимом Сергеевичем, а щенка Каштанкой. Наконец она заканчивает молиться, привстает на цыпочки, прикладывается к руке Тургенева на портрете и уходит. То место, на котором она стояла, заволакивается сонной тишиной, а Пушкин на иконе тропининского письма начинает зевать и барабанить пальцами по столу.
* * *
А если бы Горький не вернулся? Кого тогда назначили бы вместо него главным пролетарским писателем? Кто тогда организовал бы и возглавил писательский съезд? Маяковский к тому времени застрелился. Да и какой из поэта организатор. Все равно что Пастернаку велеть организовать съезд. Такого нагородил бы… Он даже самых обычных строевых команд не знал. Фадеев с Фединым… еще нет. Серафимович уже был стар, хотя и не суперстар ни разу. Шолохов? Этот всё пропил бы. Бабель не подошел бы – еврей. И вообще не подошел бы. Слишком талантлив и слишком себе на уме. Толстой всем хорош, но классово чужд. А уж он все исполнил бы в лучшем виде. И списочек составил бы из пяти гениальных писателей и сорока пяти талантливых. И за то, чтобы попасть в этот список или хотя бы в дополнения к этому списку, писатели Толстому… Нет, тут нужен писатель из народа, с прошлыми литературными заслугами, которому этих заслуг мало, а новые литературные заслуги уже…
А Максимыч остался бы на Капри вместе со своей Лисой Патрикеевной Будберг. Выращивал бы цветную капусту. Лечился бы кьянти. Может, ему и Нобелевская премия обломилась бы вместо Бунина или Шолохова. Интересно, что сказал бы по этому поводу Набоков…
Дотянул бы бывший пролетарский писатель до антибиотиков. Мы бы его пьесы в самиздате читали. Диссидентская молодежь сделала бы «Песню о буревестнике» своим гимном. Барды положили бы ее на музыку, и мы пели бы «Песню» на кухнях, между винегретом и жареной уткой, а на словах «Пусть сильнее грянет буря!» соседи сверху стучали бы нам по батарее. Ну а Товстоногову за постановку «Мещан» вместо Государственной премии вкатили бы строгача по партийной линии. Припомнили бы постановку «Варваров» («Вы, товарищ Товстоногов, тогда не просто оступились – вы пошли по кривой дорожке, и я, как секретарь партийной организации нашего театра, носящего славное имя Сергея Мироновича Кирова[10], не имею права молчать…») и по совокупности, путем поглощения более строгим менее строгого… Отменили бы очередные гастроли БДТ в Польшу или даже в Японию. Пришлось бы срочно ставить «Сталеваров» или «Любовь Яровую», чтобы как-то замолить грех. Лебедев наверняка впал бы в депрессию. Актеры – очень тонкие и чувствительные натуры: для них впасть в депрессию – все равно что обычному человеку чаю пойти выпить или повеситься.
* * *
А если бы была у нас по-настоящему культурная страна, то все писатели ценились бы так же, как футболисты или хоккеисты. Сидишь ты себе Тамбовской губернии в каком-нибудь Моршанске или Мичуринске и пишешь за районный писательский клуб «Лорх» или «Синеглазка». Пишешь, пишешь… и вдруг раз! Тебя перекупает Костромская или даже Московская область. Глянулся ты секретарю их областного писательского клуба на чемпионате России по писательскому троеборью. Сулят тебе трехразовое питание, рюмку водки перед каждым обедом, бутылку по выходным и каждый год путевку в областной дом творчества. Правда, без семьи, но ты с удовольствием потерпишь. И вот ты уже пишешь за областной клуб, ездишь на ежеквартальные сборы в специальный подмосковный санаторий, занимаешься, не щадя сил, с подающей надежды писательской молодежью, ставишь ей руку, трогаешь за коленку, закручиваешь сюжеты и распрямляешь криво написанные предложения.
Конечно, могут происходить накладки. Был ты почвенником, патриотом до мозга костей, а приобрели тебя, к примеру, либералы. Вот и пиши теперь… Вот и выкручивайся. Зачеркивай везде в тексте православные крестики и рисуй масонские треугольники с глазами, не говоря о шестиконечных звездах. Можно, конечно, поменять гражданство и писать за какую-нибудь литературно не очень развитую, но богатую страну или бедную, но очень гордую, которой надо непременно быть в чем-нибудь первой. Хотя бы в литературе. Впрочем, для этого и гражданство менять не надо. Эх, мечты, мечты… Отчего вы такие глупые…
* * *
Ночью не спалось. Лежал и придумывал вицмундиры для писателей, редакторов и литературных критиков. Представлялись мне гусиные перья в писательских петлицах: у писателей районного масштаба – из белой некрашеной пластмассы, у областного – анодированные под серебро, а у признанных классиков и лауреатов всероссийского масштаба – настоящие золотые на малиновом бархате. На рукаве нашивки за романы, повести или вышедшие книги. Если ты поэт и написал гениальное стихотворение, то вот тебе крошечный красный значок в виде разорванной аорты – похожий на капельку крови на булавке, которую выдают донорам. Три таких значка – и ты уже как георгиевский кавалер среди поэтов. Три таких значка – и тебя уже ненавидят все поэты. Впрочем, никто тебе и не даст трех значков. И одного не дадут. Это надо, чтобы вся комиссия по присвоению этих значков, включая представителей минкульта, минобраза и комитета Госдумы по гениальным стихотворениям… Да они между собой… и тебе тоже достанется так, что мало не покажется. Ну и ладно. Не больно-то и хотелось.
Вернемся к вицмундиру. К нему нужна фуражка, а на фуражке должна быть кокарда с выпуклой штампованной шинелью, из которой мы все вышли. У издателей вместо перьев в петлицах ножницы, и бархат не малиновый, а зеленый. И у каждого вышит на погонах логотип журнала, в котором он служит. У редакторов толстых литературных журналов должен быть какой-то значок или вышитый вензель, означающий, что они… вроде лейб-гвардии. Их за эти вензеля редакторы всех остальных, обычных журналов будут недолюбливать. И это мягко говоря. У критиков… про вицмундир критиков я почти ничего не успел придумать потому, что заснул. Помню только, что бархат у них на петлицах черный, на бархате скрещенные злые языки и пистолеты, а к седлам приторочены метлы и собачьи головы писателей.
* * *
Сейчас-то любители бумажных книг хорохорятся, рассказывают про удивительный, ни с чем не сравнимый запах старых книг, про тисненные золотом кожаные переплеты и все такое. Вот уже скоро станут делать тисненные золотом кожаные переплеты для планшетов и букридеров. И пахнуть они будут в точности как старые книги – смесью бензойного альдегида, ванилина, этилгексанола, толуола и этилбензола. Химики уже всё выяснили и всем рассказали. Будут электронные книги с запахом старых книг, а для тех, кому нравится запах новых, – будут с запахом клея, типографской краски и еще чего-нибудь по желанию заказчика. Например, духов, свежевыловленной корюшки или односолодового виски.
А еще и звуки… Читаешь ты про Гримпенскую трясину – и у тебя в наушниках тихий, леденящий душу вой. Убийство в Восточном экспрессе будет сопровождать стук колес. Прогулку Анны Сергеевны и Гурова по набережной Ялты – заливистый лай шпица. Или взять стихи. И море Черное витийствуя шумит… По старинке-то надо раковину к уху прикладывать, а тут тебе и шум волн, и свист ветра, и скрип гнущейся мачты, и даже крики чаек. Или в том месте, где у Толстого «свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла», за экраном вспыхнет свет и все погаснет секунд на пять или десять. Пошлость, конечно, несусветная, но чувствительным дамам и девицам будет нравиться, и они даже незаметно поднесут носовой платок к уголку глаза, если им случится читать в метро. Любовные и эротические романы… придется слушать в наушниках. Расцветет новое искусство иллюстрирования.
Конечно, останутся и те, кто из принципа будет читать только бумажные книги. Эти будут ходить в подпольные библиотеки и там, среди таких же сектантов, как они сами… Не знаю, что мы там будем делать – может, гладить обложки, может, нюхать их, говоря, что вот этот запах настоящий, а не какая-нибудь дешевая химическая смесь, от которой за версту несет освежителем воздуха, а может, просто станем выпивать и закусывать, вспоминая… да хотя бы очередь на Дрюона, которого давали по талонам за сданную макулатуру.
* * *
Одной только фразе Шолом-Алейхема «И в беде нужна удача» я бы поставил памятник, а вокруг него разбил бы парк, в парке расставил бы ларьки с мороженым, фруктовыми водами, цветами, семечками, пончиками, французскими духами в розлив и блестящими воздушными шариками в виде сердечек, на палочках, в тенистых аллеях расселил бы соловьев, в укромных местах расставил бы скамеечки и беседки, на скамеечки рассадил бы влюбленных – тех, которые уже целую неделю встречаются, еще «дальше локтя не пошли или колена», но уже жить друг без друга не могут и беспрестанно говорят друг дружке о том, как им повезло, что они встретились, что могли бы пройти мимо и не заметить, а не прошли, а могли бы и уже почти прошли, но вдруг точно молния, и это не просто везение, не просто удача, а…
* * *
Задумался о родине. Ну хорошо, о Родине. Родился я в Киеве. Прожил там первые три месяца, и увезли меня в Серпухов к месту работы родителей. Нет, Киев мне не Родина. Даже с учетом того, что я приезжал туда на каникулы к бабушке. И Серпухов не Родина. Я там прожил до шестнадцати лет. Не скучаю я по Серпухову и не хочу туда вернуться. Того Серпухова все равно уже нет. По детству скучаю, но детство не Родина и в него не вернешься. Потом шесть лет учебы в Москве, потом четверть века в Пущино-на-Оке, потом Сан-Диего, потом снова Москва…
Спроси меня сейчас, где моя Родина… Где мне лучше всего? Если честно, то лучше всего я себя чувствую в рассказах Чехова. Мне туда хочется возвращаться. Если бы в паспорте можно было записать в графе гражданство «Рассказы Чехова» – я бы записал не колеблясь. Я не сразу в них поселился. В детстве я жил в Древнем Риме. Там была моя настоящая Родина. Ходил в серпуховскую среднюю школу, бегал во дворе с друзьями, но был в Риме вместе с братьями Гракхами, Марком Юнием Брутом, Суллой и Цезарем. Каждый день мечтал об эмиграции в Вечный город. Как только засну – так сразу на Форум, защищать братьев от сенаторов. Потом на несколько лет уехал в «Трех мушкетеров».
Когда учился в Москве… нигде не жил. Скитался по разным книжкам. Лет пять прожил в толстенном американском учебнике по органической химии. Неплохо, кстати, жил. Думал, так и останусь там навсегда, но… в один прекрасный день собрался с мыслями – короткими, длинными и даже теми, которые закручены против часовой стрелки, – и ушел жить в «Мертвые души», в «Левшу» и в «Очарованного странника». Хотя уже тогда я начал понимать, что ружья мы чистили, чистим и будем чистить кирпичом, но… все равно ушел. Если бы тогда менял паспорт, то взял бы двойное гражданство – «Левши» и… нет, тройное. Еще «Мертвых душ» и «Повестей Белкина».
Ну а в сорок пять, когда меняют паспорт в последний раз, уж осел бы в рассказах Чехова навсегда. Есть, конечно, еще Набоков, но он не для того, чтобы поселиться в нем навечно. Он что-то вроде облаков. Вот ты живешь себе, живешь в рассказах Чехова и время от времени задираешь голову вверх, а там по небу плывут облака. Вот они и есть Набоков. Любоваться, но не жить. Впрочем, Набоков вполне уместен как штамп пограничного контроля в паспорте. Да, бывал. Неоднократно. Даже дачу там завел для летнего отдыха, но постоянно живу здесь. Есть еще дом в повестях Паустовского, доставшийся от родителей, но там бываю, увы, редко, наездами.
И вот еще что. Я совершенно не патриот рассказов Чехова – я их просто люблю, но не стану рвать на груди рубаху, доказывая, что жить надо только в них, а тех, кто свалил в какую-нибудь сказку братьев Гримм или роман Джерома…
* * *
Теперь деревенской прозы днем с огнем не найти. Есть городская, есть эротическая, есть фантастическая, есть психологическая, есть даже хорошая, но деревенской… Бывает, что продадут вам по документам роман из деревенской жизни и обложка у него будет натурального навозного цвета, и на каждой странице небритый Прохор с румяной Лукерьей будут валяться на сеновале, и озимые взопреют, и старик Ромуальдыч со своею портянкой… а принюхаешься и тотчас учуешь запах французского коньяку, английского табаку и асфальта с бензином. И это понятно – писатель все время живет в городе, лишь время от времени выбираясь на природу или на дачу. Для него самые деревенские запахи – это запахи шашлыков и сухого красного вина. В деревню его и на аркане не затащишь. Да и как ему прожить в деревне, как прокормиться, ежели все источники его доходов, все эти колонки в глянцевых журналах, все эти редакции, в которых надо обивать пороги, находятся в городе.
Вот если бы писателям давать деревни в кормление… Не так, конечно, как при крепостном праве, Боже упаси. Все-таки двадцать первый век на дворе. Никакого крепостного права, а чтобы деревня писателя кормила в самом прямом смысле этого слова – приносили бы крестьяне ему молоко, картошку, яблоки, яйца, творог, говядину и даже шерстяные носки двойной вязки, а писатель за это описывал бы их деревенскую жизнь. И вообще описывал, и в частности. Понятное дело, если описать всё как есть, то крестьяне писателю эти самые носки двойной вязки на голову натянут до колен. Описывать надо в лучшем виде.
Пришел, к примеру, ко мне сосед в рваном свитере и с огромным фонарем под глазом, с больной головой после вчерашнего и преогромной просьбой одолжить ему хотя бы сто рублей для того, чтобы отсрочить смерть, которая за ним придет через час или два. А я его опишу культурным, в брюках со стрелками, в фетровой шляпе с широкими полями и пахнущим французским одеколоном, а не машинным маслом и перегаром, от запаха которого не только мухи, но даже и воробьи дохнут. Это, скажут мне, и художник нарисует не хуже писателя. Нарисовать-то он нарисует, но не расскажет, что человек этот лишь по несчастной случайности оказался в глухой костромской деревне, где ухаживает за разбитым параличом трактором «Беларусь», а на самом деле он происходит из богатой купеческой нижегородской семьи, которая владела пятью пароходами, и каждая пятая или даже четвертая черная икринка, добываемая волжскими рыбаками, принадлежала прадедушке нашего тракториста. После семнадцатого года икра и пароходы… Мало того, несчастный сосед пару лет назад выпал из трактора вниз головой и ему отшибло память об икре и пароходах. Теперь он помнит только, как пропил переднее колесо, и на его лице даже самый проницательный художник не увидит ничего, кроме тракторных шестеренок и фонаря под глазом. Конечно, от такого соседа яиц, не говоря о говядине, не дождешься, но упитанного деревенского кролика, застреленного по ошибке как зайца, или кабачков, которые растут даже там, где их не сажали, он принести может.
И это только одна история о соседе-трактористе, а написание крестьянкам многосерийных родословных, а разлученные в детстве доярки, а продавщица из сельмага, которую похитили инопланетяне, от которых у нее родилась двойня и осталась татуировка в виде летающей тарелки с голубой каемочкой пониже спины… Такого количества продуктов хватит не только писателю, но и его жене, и теще, и даже взрослым детям, проживающим в городе.
Конечно, не всем крестьянам это может понравиться – в смысле жена, теща и взрослые дети. Начнут болтать, что у писателя жена вон какие бока наела на их горбу, но ты сначала побудь писательской женой, ты научись не дышать, когда ему пишется, не отсвечивать, когда не пишется, научись рюмку водки подавать к письменному столу в точности после удачной фразы, а не спустя три предложения, ты научись терять дар речи и падать в обморок от полноты чувств после прочтения только что написанного рассказа, ты… Я сейчас говорю даже не о женах писателей в ранге властителей дум, а о женах самых обычных писателей районного масштаба. Кстати, властителям дум можно и по две деревни давать, потому как при них будут кормиться… Ну кто-нибудь непременно будет. Особенно если деревни большие.
И вот еще что. Нельзя отпускать писателя в город на оброк. Дескать, жить он будет в городе, крестьяне сами к нему приедут, продуктов привезут, а он им в городском кабинете напишет и в деревню почтой отошлет… Ни в коем случае. Крестьян потом обратно в деревню не выгонишь.
* * *
Приятнее всего не писать рассказ самому, а читать, к примеру, рассказ Брэдбери и мечтать о том, что ты и сам вот как возьмешь, вот как напишешь тоже что-нибудь такое светлое, немного печальное и таинственное, вот как завтра же утром! И с этим чудесным настроением потом пить зеленый чай с лимонным пирогом или смотреть в окно, или просто дремать, сидя в кресле, пока тебя не растолкают и не велят идти уже спать по-настоящему, под одеялом. Но и там, в душной пододеяльной темноте, еще немного помечта-а-а… а наутро проснуться и пойти на работу, радуясь в тайне от самого себя тому, что у тебя есть работа, а настоящему писателю пришлось бы натощак писать этот чертов рассказ. Как минимум страницы две или три до завтрака.
* * *
Чистый лист бумаги. В левом верхнем углу, на коротеньком, еще не просохшем от чернил и состоящем всего из трех вихляющих букв корне стремительно набухает и тут же отвердевает суффикс с крошечной однобуквенной пипкой окончания.
* * *
Вчера вечером переживал из-за того, что погряз в мелкотемье. В том смысле, что пишу я об огороде, квашеной капусте, вишневой наливке, борще, лыжах, валенках, абрикосовом варенье и синицах. Раньше-то я как думал: сейчас быстренько напишу о каких-нибудь петуньях или бархатцах, выкину эту ерунду из головы и сяду писать настоящее – мрачное, достоевское, душераздирающее и вечное, на разрыв аорты и других внутренних органов. Загляну в бездны психологизма, психоанализа и всего такого, о чем литературные критики потом будут рассуждать, цитируя Дерриду, Леви-Стросса и Леви Страусса. Может быть, даже и запью, потому что никем не понят так, как мне бы этого хотелось. Буду ходить в облаке табачного дыма, винных паров, худой, как тень, бледный и со взором горящим… Вышло все наоборот. Мало того что не запил – так еще и курить бросил, а уж как поправился…
И все это меня поначалу мучило ужасно. Все я пытался вставить между строчками о петуньях и квашеной капусте если и не топор, которым Родион Романович отправил на тот свет Алену Ивановну вместе с сестрой Лизаветой, то хотя бы грабли или остро наточенный секатор для обрезания веток (в позапрошлом году я обрезал им засохшие ветви яблонь). Все я тщился между первой и второй рюмкой домашней рябиновки втиснуть рассуждения о несовершенстве мира, о том, быть или не быть, вместо того, чтобы вставить туда кусок малосольной селедки с луком и соленый рыжик.
А тут еще и письма читателей… Настоящих-то писателей спрашивают о том, как жить и что там, впереди? Не ждёт ли нас теперь другая эра? Меня же спрашивали, какую водку лучше брать для настоек, какие сорта петуний сажает жена, рассказывали о том, как у них в Красноярске или в Вологде ударили заморозки и как погибла помидорная рассада, и делились рецептами сдобных ватрушек… Я стеснялся этих писем, как маленькие мальчики стесняются платка, который им заботливая мать повязывает под зимнюю шапку. Я представлял себе, как на ежегодном отчетном собрании писательской организации нас, членов Союза писателей, вызывают по одному на трибуну и мы перед ревизионной комиссией, которая сидит в первом ряду, зачитываем выдержки из читательских писем. Выходят один за другим инженеры человеческих душ и читают длинные, полные боли и невидимых миру слез письма, в которых благодарные читатели пишут, как после прочтения рассказа, повести, романа или даже одного стихотворения взглянули на жизнь совершенно другими глазами, как бросили пить, как вернулись в семью или подобрали бездомного котенка на улице.
Я стою в углу, в платке, повязанном под зимнюю шапку, с ужасом жду своей очереди и комкаю в потном кулаке куцые распечатки записок о том, как собирали ведрами опята или как по моему рецепту настояли рябину на водке, но она кончилась еще перед Новым годом, как… и тут меня жена будит и говорит, что на закате спать нельзя – голова будет болеть, и вместо того, чтобы спать, я мог бы принести дров и растопить печку, потому что на веранде прохладно и рассада может замерзнуть. «Иди, – говорит она, – а то не будет у нас никаких петуний. О чем тогда писать-то будешь?»
* * *
За окном ночь, моросящий дождь и тень фонаря, колеблемая ветром из стороны в сторону. Я сижу на кухне, пью остывший чай, ем черные сухари с солью и читаю стихи Державина. Жена уже спит и видит во сне теплицу, в которой созрели на кустах преогромные помидоры. Часы в гостиной бьют полночь, и помидоры в ее сне начинают превращаться в тыквы. Жена стонет, мечется, умоляет помидоры этого не делать, но они, уже огрубевшие снаружи, ее не слышат…
Вдруг за стеной по мусоропроводу с грохотом пролетает пустая бутылка, брошенная соседом-алкоголиком, и тыквы, едва получившиеся из помидоров, начинают превращаться… но не успевают, потому что через минуту пролетает другая, а следом за ней третья. Хочется встать, вытряхнуть сухарные крошки из бороды, взгромоздиться на стул и до самого утра громовым голосом декламировать: «Я связь миров, повсюду сущих, я крайня степень вещества, я средоточие живущих, и на соседей вездесущих я…» Чтобы никто, кроме жены, не спал, чтобы сосед-алкоголик захлебнулся от ужаса своей паленой водкой, чтобы сверху плакали, молились и стучали зубами по батарее, чтобы полоумная старуха, бросающая с балкона пшено на крыши припаркованных у дома машин, вместе со своим пшеном…
Однако пора спать. Жена уже там измучилась с помидорами, которые превратились в пырей и окружают ее, загоняя в теплицу. Она их косит косой, но ей нельзя косой – у нее больное плечо. И ведь вцепилась в нее – не оторвать. Отдай косу и запрись в теплице! Я этому пырею сейчас!.. «И он подобно так падет, как с древ увядший лист падет! И он подобно так умрет, как…»
* * *
Боюсь, что в недалеком, во всех смыслах этого прилагательного, будущем писатели расплодятся еще больше, а читателей станет совсем мало и услуги их станут не по карману многим, даже средним, писателям, не говоря о начинающих. Читатели-могикане объединятся в союзы, вроде тех, что мы сейчас видим у писателей, обзаведутся профсоюзами, пластиковыми членскими билетами с двуглавыми орлами и голограммами. На Западе их будут называть «союзами букридеров». Появится иерархия Читателей – районные, в столицах еще и окружные, областные и даже федерально-окружные. В деревнях и поселках городского типа все будет по-старому – ни книг, ни читателей, ни писателей. В городах же писатели будут выстраиваться в очереди к Читателям. К районным будут вставать с вечера, чтобы успеть к утреннему сеансу чтения, а к областным или федерально-окружным… Среди писателей расцветет взяткодательство. Будут вкладывать купюры в свои книги, как в права гаишникам. Всякая литературная критика к тому времени умрет за ненадобностью, и бывшие литературные критики будут работать на звукозаписывающих студиях начитывателями аудиокниг. Понятное дело, что Читатели от районного до федерально-окружного книги будут не читать, а слушать, и профессиональная болезнь у них будет не глазная, а ушная.
Самые пронырливые писатели будут всеми правдами и неправдами прорываться в Союз читателей. Купят себе рекомендации у двух недобросовестных районных читателей и айда в приемную комиссию. Комиссии, однако, будут очень строгие. В них будут сидеть сушеные, точно воблы, и древние, как Тортиллы, библиотекарши в кардиганах собственной вязки, в очках с пуленепробиваемыми стеклами, и строго спрашивать кандидатов из школьной программы про то, как звали лошадь Вронского или какого размера была грудь у нимфы, нарисованной на картине, висевшей на стене общей залы гостиницы, в которой поселился Чичиков. Впрочем, это будет лишь первый тур. Во втором туре… среди тайных писателей в читательской шкуре расцветет взяткодательство.
Не останутся в стороне от всего этого и власти. Учредят звания Заслуженный и Народный читатель России и два вида нагрудных знаков – серебряные и золотые очки. По уму-то надо будет не очки, а уши, но уши уже будут на почетных знаках совершенно другого ведомства. У президента и премьера будут свои личные Читатели. Глядя на них, личными Читателями обзаведутся и наши толстосумы. Хороший Читатель к тому времени будет стоить больших денег. Читателями можно будет обмениваться, но только с разрешения Союза читателей и с выплатой комиссионных ему же. Вся эта процедура будет напоминать нынешний трансфер футболистов.
Но самых больших денег будут стоить Учителя Чтения, притом что учителя писания и даже чистописания обойдутся вам в сущие копейки. Богатые люди станут выписывать Учителей Чтения из-за границы и в конце концов и сами станут писать на языке своего Учителя. На русском языке будут писать только бедные писатели и писатели-пенсионеры. Пенсионеры для чтения своих воспоминаний будут покупать себе Читателя вскладчину. Минкульт разработает федеральную программу помощи, и в собесах станут группам пенсионеров выдавать на время каких-нибудь дешевых и даже некондиционных Читателей с плохим слухом и зрением, а то и вовсе какие-нибудь электрические устройства для сканирования и распознавания текста. Разозленные пенсионеры будут приходить с жалобами в собесы, приносить с собой толстые папки с рукописями, перетянутые резинками, и сваливать их у дверей кабинетов. К ним никто даже и не выйдет поговорить и извиниться. Только вечером, когда собес закроется, придет уборщик-таджик, покидает все папки в мусорную тележку и увезет их сжигать на задний двор.
* * *
На работе, за чаем, зашла речь о дачниках, о любителях копаться на грядках, о рассаде, о картошке, о сорняках и обо всем остальном, что с этим связано, вернее, к этому приковано. Я сказал, что не понимаю и не хочу понимать этих людей, которые с утра и до вечера, не разгибаясь, в поту, в курином навозе, в колорадских жуках… Что за удовольствие все выходные, как проклятый… В конце концов, я зарабатываю достаточно, чтобы пойти в магазин или на рынок и купить себе самой шоколадной картошки.
– Не скажи, начальник, – усмехнулся мой коллега. – Тут все не так просто с удовольствиями. Вот ты, к примеру, зарабатываешь достаточно, чтобы пойти в магазин и купить себе любую книгу.
– Любую, – с готовностью подтвердил я.
– Но зачем-то пишешь их сам, – сказал коллега. – Небось, каждые выходные пишешь. Не разгибаясь.
И я задумался… Что, если все читатели были бы вроде дачников. Не дай Бог, конечно, но вдруг. То есть не покупали бы готовые книжки, а писали бы сами. Захотел почитать поэму или рассказ – сел и написал. Еще и говорили бы всем знакомым, что от чтения написанных чужими, посторонними людьми книг только голова болит и давление повышается. Черт знает, из каких слов и даже букв они эти дешевые покупные романы с повестями составляют. Один человек прочел сборник рассказов – неделю в себя прийти не мог. Голова чуть на три половинки не раскололась. Думали, что придется переливание мозга делать. Еле отчитала его жена стихами собственного сочинения. И ведь купил он эту проклятую книжку в настоящем книжном магазине, а не на развале каком-нибудь уличном, не с рук у бабки-пенсионерки, которая торгует вязаными пинетками и советскими потертыми и замусоленными книжками. Хотя… советские книжки были, конечно, не чета нынешним. От них был и сон здоровее, и голова не болела. Потому, что был ГОСТ! Потому, что не было никаких искусственно-модифицированных словообразований. А теперь… Конечно, есть проверенные писатели из хороших знакомых, которые пишут для себя и немного для друзей. Чуть дороже, конечно, чем в магазине, зато все простое, не заумное – слова простые, предложения простые, знаков препинания почти нет. Читать можно с любого места. И почерк прекрасный.
10
Не Горького же. Имени Горького он был только два года – с тридцать второго до тридцать четвертого. В тридцать четвертом его переименовали. Борис Лавренев хотя виду и не подал, но обиделся страшно. Он-то надеялся…