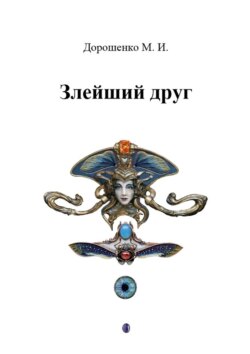Читать книгу Злейший друг - Михаил Дорошенко - Страница 25
Эта странная жизнь
ОглавлениеНаша общая с бароном Штауфенбергом история настолько неправдоподобна, что всякий раз, пересказывая ее, я самому себе отказываюсь верить. Не верь ушам своим и языку! Неужели все это было? Как ни странно, – было. Еще как было!
Я родился в семье потомственного железнодорожника. Вскоре после того, как пошел в школу, отца расстреляли за саботаж на дороге. Забыл сообщить: мы жили тогда в Пятигорске. Мать работала официанткой в санатории, а также уборщицей на двух ставках, одну из которых делила со своей дальней родственницей, которая числилась на работе для стажа и статуса. Она-то и сыграла в моей судьбе решающую роль. Вторым решающим фактором оказались две полки книг, которые собирал мой отец, мушкетерско-детективно-авантюрного содержания, а также архитектура.
Если смотреть на Пятигорск с Машука, то кажется – перед тобой городок в табакерке. С вершины какого-нибудь утеса я отыскивал в окуляре подзорной трубы мозаичную фреску или барельеф на стене и часами любовался, изучая сюжет. Несмотря на твердость основы изображенные на барельефе существа казались текучими, легкими, подвижными. В то время люди не вызывали во мне интереса, они выглядели пародийными подобиями тех великолепных статуй, которые еще сохранились на карнизах домов, ибо все, что находилось ниже, было испохаблено вечно пьяными обывателями, заселяющими ныне руины некогда античного города. Ничто не мешало мне грезить в одиночестве на крутых склонах Машука.
Пятигорск тех лет нес еще следы того безумного модерна в архитектуре, который превращал улицы в некое подобие Пергама. Идешь, бывало, по улице, а со стены, отводя одной рукой ветвь с ярко синими или фиолетовыми кленовыми листьями, смотрит на тебя красными зрачками расширенных от удивления глаз изразцовая наяда со следами позолоты на лице и груди. Позднее большевики набросились на всех этих греческих див и за неделю содрали с них изразцовую кожу, попортили лица – для чего, непонятно! Очередная волна ненависти к красоте захлестнула, должно быть.
В тридцать седьмом году, когда мне исполнилось тринадцать лет, в мое беспечное существование вторглось существо из мира людей, к коим, к несчастью, как мне тогда казалось, лишь по ошибке в божественных расчетах относился и ваш покорный слуга. Она была на два года старше меня, что в моем возрасте становилось непреодолимым препятствием для каких-либо отношений. Явившись однажды во двор, она бесцеремонно взяла меня за пуговицу, притянула к себе и спросила: правда ли, что у меня есть подзорная труба. Убедившись в наличии искомого объекта, она предложила поменять на театральный бинокль. Чтобы не слушать моих возражений, она даже закрыла мне рот ладошкой, и пообещала показать нечто такое, что компенсирует потерю. Не теряя времени даром, она взяла меня за руку, отвела в ближайшие кусты и там долго смотрела на меня, в ожидании какой-то реакции от меня. Совершенно неожиданно, она распахнула блузку и предстала во всей красе своего вполне созревшего тела. Безумная старуха выглядывала пустыми провалами невидящих глаз из окна соседнего дома, все вокруг утопало в сирени, пестрый воздушный змей парил над верхушками деревьев в предвечерней синеве. «Достаточно?» – спросила она, насмешливо улыбаясь. Не ожидая ответа задернула блузку и дала мне пощечину. Еще несколько минут назад я находился в том блаженном состоянии, в коем пребывают, должно быть, в раю, а ныне страсти взрослого мира вторглись в мою неокрепшую душу. Словно наяда, явившаяся из мира изразцовых грез, она победно глядела на меня и, хищно улыбаясь, требовала подзорную трубу. Вначале она наотрез отказалась объяснить, для чего ей понадобилась труба, но я настоял на своем.
На склоне Машука росло старое корявое дерево с дуплом. Мы поднялись наверх до того места, где дупло расширялось, образуя своего рода пещеру, устланную мхом. Сквозь небольшое отверстие размером с форточку открывался вид на один из холмов с пряничным домиком на вершине, разукрашенный башенками. На углах башен располагались грифоны в неудобных позах, должно быть, чтобы не заснули на посту. В архитектурном раю, который тогда представляла улица Двенадцати Золотых Труб на горе Машук в Пятигорске, особняк барона фон Штауфенберга был жемчужиной в браслете. Дом представлял из себя букву Т, верхняя часть которой выходила на улицу, опоясывающую полукругом Машук, с полусотней дворцов, выстроенных до революции. Ныне они поредели, как зубы старика и обветшали. Нижняя часть, спускаясь по склону, возрастала в этажности, превращаясь в некое подобие старинного корабля с неизменной сиреной на носу; передняя, соответственно, походила на корму. Многочисленные статуи и бюсты на крыше и высокие трубы, стилизованные под башенки, придавали окончательное сходство дома с кораблем. С фасадной стороны дом казался крепостью или замком с ложными окнами и воротами, а попасть в него можно было только через неприметные боковые ворота. С другой стороны, видимой с дерева, дом раскрывался как раковина, показывая блистающий изразцом маленький дворик. Окна с внутренней стороны были постоянно раскрыты, и все происходящее в доме просматривалось из дупла. Через подзорную трубу можно было прочесть название книги, лежащей на столе. Впрочем, книгами в доме не интересовались. Несколько месяцев лицезрения страстей, творящихся в доме для отдыха чиновников высокого ранга, заменило нам кино, да и все остальное в жизни.
В тридцать девятом, когда мне исполнилось четырнадцать лет, в особняке произошла чистка – не в смысле уборки, разумеется – всех отдыхающих, включая обслуживающий персонал, арестовали. Выйдя из дома поставить свечку в церкви за упокой отца, мать спасла себе жизнь: назад ее уже не впустили. На следующий день приходит на работу, а в особняке никого нет: двери хлопают, занавески развеваются, вещи разбросаны и – никого. Ходили слухи, что их всех погрузили в автобусы, подвезли к какому-то дому на Бештау, где находился вход в штольню урановой шахты. Машины заехали внутрь горы, а назад вернулись уже без людей. Поговаривали, будто бы все они были убийцами Кирова.
Местное начальство с перепугу не приближалось к дому несколько месяцев, а, чтобы пустующее помещение не стало прибежищем бомжей, мою мать, единственную из оставшихся в живых, отрядили охранять проклятое место. Тогда-то я впервые попал во дворец.
Мать несколько недель собирала разбросанные вещи в чемоданы и складывала в холле, а мы с Беатой…
* * *
Беата, Беатрис, Бенедикта, Беттина – так она называла себя. Конечно же, у нее было обычное советское имя и белогвардейская фамилия Орловская. Она была несомненной принцессой, королевой-колдуньей. Гром небесный, он беззвучный, господа, когда ударяет в сердце после того, как она собрала пышные волосы в пучок, а затем отпустила… волосы вновь распустились дымчатым облаком… и подала мне руку. «Беата, – представилась она, притворяясь, что не знает меня. – Ну, что же вы, кузен, не целуете руку? Не умеете? Я научу».
Вокруг суетилась мама, расхаживая между статуй с тряпкой для вытирания пыли, объясняя, что это та самая наша дальняя родственница, мать которой числится здесь уборщицей, чтобы ее не посадили за тунеядство, но не работает, потому как закончила институт Благородных Девиц в Петербурге, но поскольку она наша родственница, я могу называть ее тетей… «Посмотри, какая у нее красавица дочь и какие у нее прекрасные манеры, не то, что у нынешних…» – и что, несмотря на свои юные годы, она уже говорит на французском, немецком и… итальянском». В продолжение этой панегирической речи Беата улыбалась, величественно, как королева, выслушивающая бесконечно длинные титулы, которыми ее представляли при дворе герцога Тарабарского. Декорациями служил пустой холл дворца барона фон Штауфенберга.
Под улицей внутри горы находилось подземное помещение, соединенное с домом лестницей, уходящей в обе стороны от входа. Огромный холл с двумя лестницами – другая вела в глубину дома – был заставлен статуями, канделябрами и вазами. Все в доме сверкало изразцами, мрамором, бронзой, перламутром, серебром. Тяжелая мебель из мореного дуба и красного дерева поблескивала позолотой, перламутром и еще чем-то ценным, что по кусочкам выковыряли из гнезд и заменили осколками цветного стекла. Ремонт нанес непоправимый удар по витражам и по всему хрупкому, что еще сохранялось в доме. Стоящие в зале статуи и канделябры росли как бы из пола, все то, что могло быть сдвинуто, было украдено или разбито, все, что было плохо привинчено или прикреплено, – содрано со своих мест. Оставались лишь тяжелые буфеты и неразъемные столы, которые не проходили в двери, а также бронзовые люстры и все изразцовое великолепие облицовки. На фоне разнообразия ликов античных богов единообразие человеческих лиц, особливо второго потока после чистки тридцать седьмого года, казалось плесенью, оскорбляющей богов своим плебейским видом.