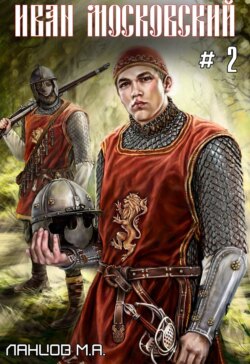Читать книгу Иван Московский. Том 2. Король Руси - Михаил Ланцов - Страница 8
Часть 1. Обороной стальной
Глава 6
Оглавление1473 год, 3 июня, Тверь
Тверь встретила короля Руси мрачно и безрадостно. Тут шло всё к одному. И мерзкий дождь, зарядивший накануне. И закрытые ворота с хмурыми лицами защитников. И покинутый посад, в котором нечего было грабить. Даже частично разобранный, но толком не успели. Спешили, видно. Хорошо хоть не сожгли.
– Как же это всё не вовремя… – раздражённо бурчал Иоанн, вышагивая под навесом. – Из-за этого треклятого дождя не постреляешь.
– Может быть, соорудить навес над орудиями? – поинтересовался командир артиллерии Пётр. Старший сын плотника, прибившийся к войску из-за способностей к учёбе, в особенности к математике.
– Влажность воздуха очень высока. Это ведь не ливень идёт. Видишь, какая водяная взвесь всюду. Словно и не дождь, а какая-то мерзкая пыль, которая просто висит в воздухе. Порох отсыревать станет прямо сразу. Вон одежда вся насквозь даже под навесом.
– Ну… – попытался было сказать что-то Пётр, но не стал, так как никаких мыслей в голову ему не пришло. Он хотел предложить жаровни под тем навесом поставить, но передумал, поняв опасность открытого огня рядом с порохом.
– Конница по такой мерзкой погоде тоже воевать не станет, – заметил Оболенский. – Ни наша, ни ихняя. Лошади ноги переломать могут. Кому такое нужно?
– Надо было лагерь нормальный ставить, – продолжал бурчать Иоанн. – Ох беда… из-за этой сырости у нас немало бойцов простудится.
– А чем тебе посад не нравится?
– Обороняться в случае чего как? Порядок поддерживать как? Чистоту? Нет, занимать посад нельзя. Разве что временно. Нужно лагерь ставить нормальный, чтобы всё на виду, общественный туалет, плац и прочее. Иначе не только простудами обзаведёмся, но и животом маяться начнём. Вот вам крест – не минет сия участь войско наше.
– По былому году как-то обошлось же.
– Так то только через чистоту и порядок, что я в войске чинил. Болезнь живота – она ведь грязь любит, немытые руки, воду некипячёную и прочее всё то, что я требую, а вам не нравится. Я же сказывал уже – такие боли бывают от попадания мельчайших тварюшек внутрь. Их жизнь в животе нашем боль и страдания нам и приносит.
– Чудно ты говоришь… – покачал головой Оболенский. – Сложно в такое поверить. Как по мне, так лучше добре помолиться перед приёмом пищи и надеяться на то, что с божьей помощью обойдётся.
– Когда делали так, как я велел, болели?
– Нет. Но…
– Что «но»? Ежели кресалом бить о кремень – сыплются искры. Молись, не молись – сами они не появятся, ежели дело не делать. Причём делать правильно. Так и тут. Ежели чистоту не блюсти, а воду не кипятить – не избежать нам всем боевого поноса.
Иоанн хотел развернуть мысль во всю ширь и, пользуясь моментом, прочистить мозги Оболенскому, но развить тему не удалось. Подошёл промокший вестовой.
– Государь, там от Твери к тебе пожаловали.
– Для переговоров?
– Не, – покачал головой вестовой. – Божится, что свой. Говорит, пришёл слова важные передать. Слово и дело государево!
– Ясно, – кивнул недовольно Иоанн и, поёжившись от сырости, приблизился к жаровне. – Ведите его.
Минут через пять этот кадр подошёл. Не самая бедная одежда, но и не богатая. Слегка испачкана, но по такой погоде неудивительно. Продрог. Иоанн, хмыкнув, кивнул ему на жаровню: дескать, подходи. И тот не стал ломаться – сразу подскочил и с удовольствием простёр руки над горячими углями.
– Что тебя привело ко мне? – поинтересовался наш герой.
– Новость тебе принёс. Сбежал Михаил Борисович из города. Казну свою прихватил, дружину ближнюю и бежал, тебя не дожидаясь.
– Куда?
– В Литву побежал, к Казимиру.
– Так чего бояре не выходят и со мной торг не ведут? Али надеются, что я постою и уйду? Дождь не может идти вечно.
– То верно, – кивнул собеседник. – Но князь нас стращал, говорил, будто бы ты желаешь Тверь вырезать всю да разобрать по брёвнышку.
– Ну и зачем мне это?
– Почто нам знать? Мало ли чем обидели тебя.
– Я ныне Русь воедино пытаюсь собрать. Чтобы единая была, как некогда при Владимире Святом. И Тверь – один из важных городов Руси. Так отчего мне его своими руками изводить? Глупо же.
– Глупо, – кивнул переговорщик… или перебежчик, тут сразу и не разобрать. – Но всё одно боязно. Да и словам Михаила Борисовича многие верят. И про тебя, король, и про Казимира, который обещал помощь.
– Заграница нам поможет, – саркастично произнёс Иоанн. – Запад с нами!
– Что? – не поняли присутствующие.
– Я шучу, – улыбнувшись, произнёс король. – Страсть Твери к союзу с Казимиром не может не вызывать смеха.
– Отчего же? – нахмурился тверчанин.
– Друг мой. Речь не идёт о независимости Твери. Тверь потеряла свой шанс стать центром кристаллизации Руси. Могла. Без всяких споров и разговоров. Но лет сто назад. Теперь же речь идёт только о том, к какой державе Тверь присоединится. К Руси или к Польше, ибо Литва ныне под пятой Польши. И если я заинтересован в сохранении Твери как крупного города, то Польша может им пожертвовать, поняв, что не в состоянии захватить.
– А в чём твой интерес? – не унимался этот гость тверской. – В городе много твоих противников. Поступить так же, как с Новгородом, не выйдет. Ежели имущество противников передать сторонникам, а самих противников выселить в Юрьев-Камский, то туда отправится едва ли не вся Тверь.
– У меня не так много людей, в отличие от Казимира. Так что даже своих врагов я стараюсь не убивать, а применять там, где мы сможем оказаться друзьями.
– Если у тебя мало людей, то зачем Твери идти на твою сторону. Ты ведь проиграешь в этой войне.
– Я разгромил Рязань.
– Похвально. Но Тверь не Рязань. Мы слышали, что ты сумел в битве на реке, применив хитрость и дьявольское оружие, побить их защитников. В Твери же сейчас сидит бо́льшая часть городового полка. Да и кое-кто из союзников. Так просто наш город тебе не взять. Кроме того, за каждыми из ворот уже сооружены завалы, отчего внезапного натиска не выйдет.
– Вы считаете, что способны дождаться Казимира?
– Мы просто хотим разойтись миром.
– Не я первым повёл свои войска на войну. Не ваш ли князь оскорблял меня и мою супругу на поминках моего отца? Не ваш ли князь задумал разорить посад московский, пожечь его и увести богатый полон из моих людей?
– Но у него не получилось.
– Если ты пытался убить и не справился, это не оправдание. Ты хотел. Ты пытался. Как не оправдывает это и вас, ибо весь городовой полк вышел с ним.
– Мы просто хотим разойтись миром, – настойчиво произнёс визави Иоанна.
– Я готов дать вам мир. Но только если вы присягнёте мне на верность, признаете своим князем и выплатите виру.
– Государь, я не в праве давать тебе ответы на такие вопросы.
– Так возвращайся в город и передай мои слова. Пусть подумают над ними. Потому что, когда дождь закончится и всё немного подсохнет, мои войска начнут действовать. И после первых выстрелов переговоры окажутся затруднительны.
– Я понял тебя, – произнёс этот переговорщик неофициальный и откланялся.
Иоанн же вернулся к делам насущным. Он был уверен, что Тверь не примет его предложение. Но сделать его он считал своим долгом. Другой вопрос, что только сейчас он осознал, насколько неудачна его позиция.
Армия его была изнурена рывком сначала к Рязани, а потом к Твери. Где-то на лодках, на которых бойцы гребли. Где-то своим ходом. И теперь уставшее войско оказалось в неблагоприятных климатических условиях. Причём войско ослабленное. Да, королевская дружина в целом выжила, хоть и сдулась с без малого четырёхсот до трёхсот всадников. Однако куда более организованная и управляемая конница сотенной службы ушла с Ахматом. А потери, понесённые во время речного боя, штурма Рязани, боя на переправе и маршевого перехода, всё одно имелись, хоть и были малыми. Впрочем, затянувшийся дождь мог легко их увеличить. Про порох же он старался не думать. Просто не думать. Да, всячески оберегал его от сырости, но мысли о его состоянии гнал прочь.
С порохом вообще были проблемы.
Понятное дело, что он употреблялся на Руси уже доброе столетие. Но весьма и весьма ограниченно. Из-за чего запасы «огненного зелья» у него имелись скромные.
Шесть лёгких полевых орудий, четыре сотни аркебуз и шестьдесят семь ручниц-картечниц – приличный арсенал для местных реалий. И пожирали эти стволы отцовские запасы только в путь. Сколько он так на них протянет? Бог весть. Можно посчитать, но расход пороха шёл достаточно непредсказуемый. Время от времени выяснялось, что бочонки с ним испорчены.
Сколько ему требовалось? Ну на «выпуклый глаз».
Полевое орудие за выстрел «кушало» около фунта пороха, что картечью, что ядром. Это при расчёте ста выстрелов на ствол требовало запасов в шестьсот фунтов.
Ручница-картечница – порядка четверти фунта за выстрел. При запасе в полсотни выстрелов это требовало порядка восьмисот пятидесяти фунтов. Это было полезное, но специфическое оружие. Оттого и не особо ходовое, поэтому Иоанн вёл расчёт оперативных запасов из оценки всего полусотни выстрелов.
Аркебузы были самыми экономными и потребляли что-то порядка фунта пороха на две сотни выстрелов. Отчего четыре сотни таких «карамультуков» при расчёте ста выстрелов на ствол требовали восемьсот фунтов «огненного зелья».
Совокупно, по прикидкам Иоанна, требовалось что-то порядка двух тысяч четырёхсот – двух тысяч пятисот фунтов пороха. Иными словами, чуть за тонну. Много. Очень много. В начале же этой войны ревизия показала едва за полторы тысячи фунтов. И где брать порох ещё, Иоанн понятия не имел.
Он уже успел ознакомиться с местными способами производства «огненного зелья» и толком так и не понял, как у них вообще что-то получалось. Не говоря уже о том, что селитряницы работали медленно, имели крайне низкий КПД и чрезвычайно большой цикл. Года два, иной раз три. И было их мало. Так что все поступления от внутренней выделки пороховой не превышали, как правило, и двухсот фунтов в год. Причём порох этот был весьма паршивый и очень гигроскопичный[23], ибо делали его не на калийной селитре или хотя бы натриевой, а на весьма поганых нитратах[24]. Все полноту ситуации усугубляла ещё и сера, которая была строго привозной…
Дефицитность пороха заставляла Иоанна стараться по возможности уменьшать объём боевых действий, сведя к минимуму расход «огненного зелья» и опасаясь, что в самый ответственный момент может наступить катастрофа. В его голове всё было настолько мрачно, что он даже подумывал о том, чтобы сжечь Тверь к чертям собачьим. Благо, что город был деревянный. И ежели по ночи начать обстреливать его из луков стрелами с подпалённой паклей, то всё получится. Не хотелось бы, конечно. Очень не хотелось бы терять такой полезный и крупный город, но эта мысль время от времени стучалась в голове. Особенно после того, как малый боярин тверской сам её озвучил, пусть и в искажённой форме…
Строго говоря, Иоанн вообще не хотел этой войны. Ему бы пять-десять лет мира, чтобы хоть какой-то порядок навести в державе. Чтобы войска по уму натренировать и вооружить. Чтобы обозное хозяйство грамотное сделать. Да и банально пороха накопить, без которого любая большая война выглядела сущей авантюрой. Не говоря уже о том, что мир – это возможность торговли, прежде всего международной, без которой он не видел своего будущего. Понятно, что мастеров добрых ему никто не повезёт. Да и с прочими поставками будут проблемы. Но это всё равно будет хоть что-то…
Впрочем, ситуация была такой, какой была. Иоанн хмурился, но, сцепив зубы, думал над выходом из сложившейся ситуации. И грелся у жаровни, стараясь не простыть. Потому что при таком накале страстей это ему было надо в последнюю очередь…
23
Селитра, получаемая в селитряных кучах, составляет в основе своей смесь из аммиачной и кальциевой, отличаясь очень низкими качествами. Именно такую селитру использовали для изготовления пороха в XIII–XVI веках, отличающегося низкой мощностью и чрезвычайной гигроскопичностью. Позже её стали улучшать с помощью поташа (получали из золы), каковым называли в те годы не карбонат калия, а смесь карбоната калия и натрия, которые долго не умели разделять. Из-за чего порох Нового времени был не калийный, а калий-натриевый. Хороший калиевый порох стал появляться только в XVIII веке из-за поставок индийской селитры, а потом в XIX веке, когда научились разделять зольный поташ на карбонат натрия и карбонат калия.
24
Чистую аммиачную селитру научились выделять только в XIX веке, как и делать ВВ (в том числе малодымный порох) на её основе. Но в смесях она применялась с самой зари огнестрельного оружия.