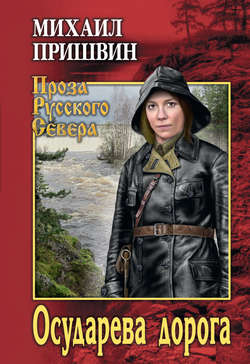Читать книгу Осударева дорога (сборник) - Михаил Пришвин - Страница 2
Осударева дорога
Часть I. Лес
I. Мирская няня
ОглавлениеХолодный родничок возле нашего костра бежит в ту сторону гор, где вишни цветут, и соловьи поют в яблонях, и, может быть, люди, если верить песням и сказкам, где-нибудь там нежно любят друг друга. Мы тут ночевали, и родничок нам журчал о благодатной южной стране. Утром мы затоптали костер, прошли немного, и вот он опять такой же, родничок, бежит, только не в ту сторону, южную, а в нашу, беломорскую, где, пусть бывает, у людей еще нежнее любовь, но где только песни поют о благоухающих садах, и никто никогда не видал цветущей вишни и не слыхал соловья, и жизнь проходила у всех нас с малолетства в суровой борьбе с суровой природой.
Шли мы долго этим ручьем, и все он усиливался и громче лепетал на камнях. Вдруг лес расступился, и показался незарастающий след далекого от нас военного похода.
– Осударева дорога, – сказал отец.
Остановились. Отец шапку снимает.
Это была незарастающая дорога со времен царя Петра. Этим путем царь народом, собранным с трех губерний, волоком тащил корабли с севера на шведа.
– Что тут народа легло! – говорит отец.
А шапку как снял, так и не надевает.
На кладбищах, на священных местах наши отцы всегда шапки снимали: осударева дорога для них была местом священного народного труда, где нам, маленьким, нужно было чего-то бояться, пристойно вести себя и слушаться старших.
Мы спускались ручьем все ниже и ниже, пока он не стал речкой в спокойной долине. Тут мы сели в карбас, и вода нас понесла. Отец правил и подгребал. Я с ружьем наготове сидел на носу. Вижу, из заводи выплыла впереди нас пара лебедей.
– Не стреляй!
Я поглядел на отца.
– Потому, – говорит он, – что они от нас не летят, а почему не летят, сынок мой, сам догадайся.
Не успел это он выговорить, как из травки выплыли лебедята.
Речка была неширокая, лебеди не смели нас пропустить, не могли нам и довериться, и тоже не могли бросить детей и улететь. Им оставалось только плыть поскорее вперед. И маленькие так спешили, что лапки назади их, вытянутые виднелись, и вода между ними шумела. А большие лебеди и хотели бы, и могли бы много скорее плыть, но оглядывались на малышей и поджидали.
Что тут делать? Птицы стесняли ход нашей лодки, мы же птиц стесняли. Так всё и плыли медленно из-за птиц до самого Выгозера. Тут мы поставили парус, и хорошая поветерь взяла нас на Карельский остров, а лебеди по этой речке, Телекинке, поплыли обратно одной тесной кучкой со своими лебедятами.
На Карельском острове в то время на берегу было столько бань, сколько во всем селе домов. У каждого хозяина на берегу была своя банька, тут каждый рыбак у себя и парился, весь красный, прямо из-под веника, выходил на порог и бросался в холодную воду.
Возле каждой баньки, так тесно, что вода была серая, плавали дикие утки: староверы их не трогали, принимая в пищу только горнюю дичь. Мне казалось тогда – это был остров непуганых птиц. Тут были утки разных пород и с ними гагары, чайки, зуйки. Отступая от бань, повыше стояло село с узкими улицами. Перед иными домами были тогда восьмиконечные деревянные кресты, такие большие, что на них можно было бы и теперь распять человека.
Особенно большой и крепкий крест стоял перед двухэтажным домом бабушки нашей Марьи Мироновны, где мы с отцом останавливались и ночевали. Только не так-то просто было войти в ее дом. Отец издали начинал шаркать ногами о траву; к бабушке нельзя было прямо ввалиться рабочему человеку, как это сплошь да рядом бывает в крестьянских домах: с улицы – прямо в избу в рабочей одежде.
Прежде чем ступить на чистый половичок и подняться наверх по лестнице, надо было хорошо ноги почистить, надо было обмыть лицо и руки в уголку, поливая воду из глиняного умывальника-чайника, подвешенного на веревочке: носик в одну сторону и носик в другую.
Поднявшись наверх, мы долго крестились по-староверски двумя перстами на старинные иконы с неугасимыми лампадами. Марья Мироновна не сразу к нам выходила. Был такой слух, и мы этого ужасно боялись, будто бабушка Мироновна спит всегда в гробу, ждет светопреставления, и что гроб ее сделан из карбаса, покрашен в черный цвет с белыми костями накрест на одном борту и с белым черепом на другом.
Мироновна на Выгозере была мирской няней. Когда заболеет у кого-нибудь дитя и слух об этом добежит до Мироновны, она садится в свой черный карбас и уплывает с Карельского острова. На пороге того дома, где заболело дитя, вскоре появляется высокая властная старуха и спрашивает голосом, вместе строгим и ласковым:
– Не улетела еще ангельская душка?
Тогда, если душка не улетела, все идут из дома спокойно на работу в поля или рыбу ловить, а Мироновна делается хозяйкой, и ее слушаются все в доме и боятся, и всем она распоряжается, как только ей вздумается, пока не отходит дитя.
Вот то и было всем на Выгозере дивно и непонятно, как это она ждет светопреставления, проповедует конец света, а только где заболеет ребенок – вся убьется, вся изведется, пока не отходит дитя. С одной стороны – свет кончается: лежит в гробу в ожидании конца, с другой стороны – тому же самому человеку так делается, будто свет только что начинается: сидит у постели ребенка.
Выходила к нам Марья Мироновна, высокая, прямая, с лестовкой в руке. Мы ей чинно кланялись, спрашивали, не нужно ли для нее поработать. И работали, бывало, и не один день. Сигов ей наловим, накоптим, насолим, щук распластаем, навялим впрок на солнце желтое щучье прочное мясо. Ей, постнице, этого хватит надолго. И мы не одни ей помогали. Этим мирская няня кормилась и больше ничего за свой труд нигде никогда не брала.
Кто много пожил, тот не удивится, как могла уцелеть до нашего времени Марья Мироновна. Так похоже, будто мысли и помыслы наши не исчезают сразу, а остаются долго вертеться, как маховики на холостом ходу. Мало ли чего такого не бывает! Поют же до сих пор на Севере былины о Владимире Красном Солнышке, о древних русских богатырях, и о соловьях на вишнях, и о яблоньках, каких у нас не бывает, виденных нашими предками еще в Киевском царстве.