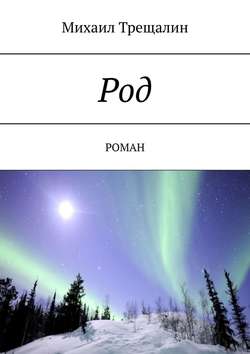Читать книгу Род. Роман - Михаил Трещалин - Страница 6
Глава II
2
Оглавление«А в детской по обоям голубым
Скакали клоуны на свиньях и верблюды»
Н. Бруни
Историческая справка
Бруни Николай Александрович родился 16/28/ апреля 1891 года в Петербурге. Сын архитектора А. А. Бруни и племянник художника Н. А. Бруни. Окончил Тенишевское училище (8 классов) в 1909 году.
Одно из самых престижных учебных заведений Петербурга, училище Тенишевой давало образование и воспитание в духе Царскосельской гимназии, разнообразя знания по математике, словесности, литературе – латынью, английским и французским языками. Программа уделяла также много времени рисованию и музыке. Большинство выпускников училища отлично владели тремя, а то и четырьмя языками, знали теорию живописи, и многие рисовали. Кто лучше, кто хуже играли на фортепьяно.
Доброжелательная атмосфера училища и в то же время строгость и требовательность педагогов достигали своей цели: из училища выходили образованные, разносторонне развитые молодые люди.
Уровень профессиональной подготовки Николая Бруни был столь высок, что он был принят сразу по окончании училища на старший курс Петербургской консерватории по классу рояля. (2), (3)
Раннее августовское утро. Село Трехсвятское – родовое имение семейства Бруни. Темные, подслеповатые окна, крыши, крытые дранкой и соломой. Сараи. Следом за сараями огороды, в огородах иногда встречаются шафранные яблони. Они, словно фонариками рождественскими, сияют плодами. Улица, поросшая гусиной лапкой. Ряд берез ровно выстроился вдоль дворов. На небольшом холмике старенькая деревянная церковь со стройной колоколенкой, а за ней кладбище. Вправо от церкви – неширокая аллея из старых лип, то спускаясь в низинку, то поднимаясь на возвышенность, наконец достигает просторной поляны с двухэтажным, под красной железной крышей барским домом с отдельно стоящим флигельком левее дома, конюшней и другими хозяйственными постройками правее.
Всюду солнце, прохладная прелесть свежего августовского утра. Бородатый мужик в армяке и полотняных штанах запрягает. Дворовый Федор носит и укладывает в коляску чемоданы, плетеные короба-сундучки, коробки и узлы. В столовой господа завтракают. Самовар поет, по скатерти пляшут солнечные блики. За столом все семейство: мать, отец, два сына – Коленька в гимнастической форме и младший Левушка в матросском костюме. Коленька строен, подтянут, выглядит старше своих девяти лет. Левушка, напротив, толстоват и немного неловок. Мама торопит: «Не болтайте попусту, сразу после завтрака в дорогу. Левушка, ну как ты держишь нож!»
Коленьке грустно оставлять деревню с ее забавами и шалостями и в тоже время не терпится в Петербург. Там много нового: гимназия, знакомства, книги, музыкальные занятия.
Позавтракали, засуетились, присели перед дорогой и, наконец, тронулись. Дорога известная: до Тулы – на лошадях часов пять-шесть, потом – поездом до Москвы, там остановка на день и снова вокзал, дорога, поезд. Новые люди, дорожные знакомства, полустанки и станции за окнами вагона. Паровоз тащит ровно, в окно нет-нет, да и пахнет горьковатым угольным дымом, и все дальше, дальше уходит земля подмосковная.
Большая станция. Коленька видит в окно зеленый одноэтажный вокзал: «Клин».
– Странное название, не правда ли, мама?
– Что ты, Коленька, Клин – известный русский городок. Ты разве никогда не читал о нем? – удивляется мама.
Коленька уже и не слышит. Он вспоминает, как Федор подле сарая за конюшней колет толстые березовые кругляки и то, что не поддается колуну, доламывает клином – маленьким кованым куском железа, забивая его в трещину обухом колуна. «Там клин – тут Клин. Любопытно, не правда ли?»
После короткой передышки поезд устремляется вперед, набирая скорость. Завтра Петербург.
***
Плавно катит Нева свинцово-серые воды, словно маслом омывая гранит набережной Васильевского острова. Над водами сфинксы глядят друг на друга, вжимаясь в камень постаментов и леденея на пронзительном ветру. Чужие они здесь. Им бы солнца и жара египетского, а не туч петербургских да ветра северного. Им холодно и неуютно на чужестранной набережной. Холодно и неуютно громоздящейся за ними каменной громаде Академии художеств.
Малолюдно. Разве извозчик редкий проскачет, да выбежит худенький студент с огромной папкой на ремне через плечо из парадного подъезда Академии, втянет голову в воротник, пробежит немного по набережной, прижимаясь к фасаду, и скроется за углом в Третьей линии.
Тут-то иначе: запутался ветер, убавился и в тоненьких струйках затих. Прохожий чуть-чуть улыбается, как будто слагается стих. И двор, и подъезд с колоннадой, и буйство левкой за стеклом роскошного зимнего сада в старинный манит тебя дом, в знакомую с детства квартиру с резными дверьми, где тайком по стенам шагают верблюды и клоуны, все в голубом. Где Беккер, как белые зубы, в улыбке раскрыл клавиш ряд, где идолы, может быть, Будды, пред книгами в шкафе стоят, где царствует мир и согласье, где музыка – живопись – жизнь всем проповедует счастье к искусству причастными жить. Здесь в доме №4 по третьей линии Васильевского острова, во втором этаже вот уже сто лет живет семейство Бруни, начиная от президента Академии художеств и ваяния Федора Антоновича Бруни. Здесь родились, выросли и обрели славу многие художники. Вот и отец Николая и Левушки, Александр Александрович, тоже художник-архитектор. Он спокоен характером, всегда уравновешен, очень трудолюбив и собран, редко его увидишь без дела. В его кабинете книги, книги, книги, и все так хороши, так интересны. Александр Александрович не сказать, что очень богат, но и не беден. Дом полон и хорош, для жизни удобен. Царит в нем дух возвышенный, дух прекрасного, дух искусства. Жена его, Анна Александровна, дочь художника и внучка известного акварелиста Петра Соколова, необычайно хороша собой и, в противовес супругу, порывиста и подвижна, переменчива во взглядах и увлечениях. Ее любят во многих гостиных Петербурга, да и в московских тоже.
В конце конов порыв увлек Анну Александровну настолько, что она оставила мужа и ушла к другому мужчине. Сыновья же остались в доме отца. Сохранился лишь светлый поток в памяти мальчиков, да в ранимой Колиной душе укрепилось противоречивое чувство обиды и любви к матери. Лева был ровнее характером, спокойнее Николая. Он не терзался уходом матери столь болезненно. Он рисовал, рисовал и становился с каждым рисунком ближе к тому удивительному Льву Александровичу Бруни, который написал акварельный натюрморт с красной рыбкой (4).
Николай же, учась в консерватории и прекрасно играя на фортепьяно, писал первые, еще не зрелые, но полные своей прелести стихи; когда хотел – рисовал, играл за первую в Петербурге команду в футбол. И что удивительно – за все, что он брался, у него получалось высоко, получалось по-настоящему, получалось здорово. Концерт в филармонии – так непременно успех, овации, цветы, поздравления. Известный пианист того времени Софроницкий, поздравляя, сказал ему: «Коленька, ты сегодня играл лучше меня!». А Коля еще только студент. И стихи самобытные, неподражаемые. Осип Мандельштам хвалит, хотя не во всем согласен. Клюев хвалит тоже, и Константин Дмитриевич Бальмонт отзывается с похвалой. А это уж значит, и стоит дорого. А Коля Бальмонт просто души не чает в Николае Бруни. Коля Бальмонт, правда, франт, но душа чистая, добрейший юноша. И поэзия его своя собственная, не отцовская.
Вздумали эсперанто учить – Коля Бруни за три месяца овладел им в совершенстве, и испанским – тоже. Константин Дмитриевич перевел Кальдерона1, а Коля захотел убедиться, насколько переводы хороши. Вот и испанский выучил.
Но все же музыка! Музыка для Коли была главной. Больше всего он именно ее любил.
Год 1911, апреля, 7 дня. В Берлине умер Александр Александрович Бруни. Смерть отца сблизила братьев с матерью. Они стали часто бывать в ее новой семье, вместе ходили на могилу отца и в церковь. Время текло незаметно, и минули два года после кончины отца. Коля закончил консерваторию и поступил в филармонию как исполнитель сольных концертов. Музыкальный мир России принял его в свою семью. Колю Бруни ожидал успех и признание публики. Он концертировал, вставал на ноги как музыкант, у него появились деньги.
Первая мировая война вошла в полную силу. С фронта приходили ежедневные вести то об успехах русской армии, то о неудачах ее, то о временных затишьях на театре военных действий. В Петрограде появились калеки в серых солдатских шинелях, изуродованные шрамами, многие на костылях и на грязных самодельных протезах, с выражением страдания и отчаяния в глазах. Эти несчастные осаждали паперти церквей, прося милостыню. А в богатых гостиных в это время щеголеватые офицеры рассказывали дамам скорее для развлечения, чем в просветительных целях, о тяготах войны, упавших на плечи русского солдата.
Великая интернациональная бойня разрасталась, увеличивала свою мощь, вовлекая в свою ужасную деятельность все новые и новые толпы людей, калечила их – уничтожала. Царский двор взывал к народу о проявлении патриотического долга, приношению себя в жертву во имя православной церкви и Отечества. Русская интеллигенция, особенно молодежь, рвалась на фронт, мечтала о подвигах и наградах. Молодые люди записывались добровольцами и уходили на войну.
В страстную субботу Николай Александрович с матерью и братом пошли к вечерней службе в Исаакиевский собор. Подле собора было многолюдно и торжественно. Люди неспешно, парами, группами и поодиночке поднимались на паперть, осеняя себя крестным знаменем, кланялись и входили в церковь. По пути все щедро одаривали нищих и калек, которых здесь было особенно много.
Николаю бросился в глаза русоволосый солдат с огромной черной ямой вместо правого глаза, с правильными, чисто русскими чертами лица. Он сидел на маленькой, низкой тележке. Обеих ног у него не было значительно выше колена. Его шинель полами тащилась по камням мостовой наподобие грубого грязного шлейфа.
– Подайте, Христа ради, – красивым и несущим отчаяние, очень чистым и музыкальным басом пропел несчастный.
Николай положил в лежащую прямо на камнях рядом с калекой солдатскую шапку серебряный полтинник.
– Спаси Христос, – пропел нищий. – Спаси Христос.
«Господи, услышь меня, господи, зачем ты позволяешь так мучить, так унижать людей, – подумал Николай, – отчего люди творят такое зло, причем прикрываются твоим именем, господи? Нужно что-то делать».
1
Кальдерон – испанский драматург. Прим. автора.