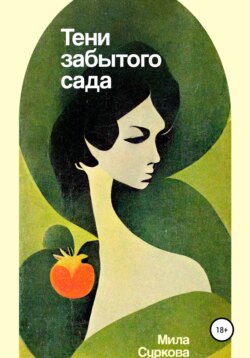Читать книгу Тени забытого сада - Мила Суркова - Страница 2
Часть первая
2
ОглавлениеКаждый вечер с наступлением темноты ко мне приходит страх и чудится плач бедной коровы. Наблюдаю, как тень рябины за окном медленно растворяется в сумерках, выкатывается луна из-за крыши соседнего дома, и на стене напротив моей кровати, как на экране, появляются качающиеся призраки. Слышны шорохи и шаги, кажется, кто-то ходит с факелом возле стен и собирается поджечь дом. Сворачиваюсь в клубок под одеялом, но страх душит и здесь. Смотрю, как луна натягивает на себя одеяло из облаков, и мы с ней засыпаем.
Раннее утро кажется нереальным после ночного путешествия среди звезд. Таинственный сон, в котором я наблюдала за Землей с космической высоты, еще властен надо мной, и я вхожу в дневной мир постепенно, как в холодную речку.
Мама с папой работают в городе и иногда возвращаются поздно. В такие дни бабушка лежит со мной, и я слушаю диковинные истории и протяжные песни. Они успокаивают меня, как и мамин певучий голос, когда она читает сказки, а в конце, по нашей традиции, «Мцыри» или «Демона» – она их знает наизусть.
Мне представляется Кавказ в «снегах, горящих, как алмаз» и маленькая девочка, моя мама, весело бегущая под дождем. Капли подрагивают в воздухе, переливаются и падают в изумрудную траву. Мокрые длинные косы танцуют на спине в такт движению босых ног, от них веером взлетает прозрачный бисер, и в нем на краткий миг отражается радуга. Горы, Машук и Бештау, сбросив колдовские чары, превращаются в юношу и девушку и ласково смотрят на свою любимицу.
Сегодня мама дольше обычного лежит со мной. Я наматываю блестящую прядку ее темных волос на палец, потом отпускаю, и она тут же выпрямляется. Волосы у мамы густые и прямые.
– Как проволока, – говорит она. – Никакие бигуди не могут сделать мне кудри.
– Мама, ты любишь Лермонтова?
– Да, очень.
В ее голосе, когда она говорит о Кавказе, чувствуется тоска по родным краям. Я же представляю, что Мцыри – это Сашка, и жалость сжимает сердце, когда он умирает.
Мама заговорила о нем. Я знаю, что ей нравится мой Санчо Панса – так она его называет, но считает виновным в том, что он повел меня в степь в тот день.
– Вера, Саша хороший, но он мальчишка, у него свои игры, и ты не должна с ним ходить туда, куда тебе не хочется.
Я ничего не ответила. Как сказать маме, что с ним мне ничего не страшно? Он старше на два года, невероятно умный и смелый. Сашка научил меня свистеть, насаживать червяка на крючок (бедный червяк!), перелазить через забор и ловить жуков. Прошлым летом, взявшись за руки, мы отправились в путешествие на противоположную сторону реки Ахтубы, в лес. Я боялась диких зверей или разбойников с ножами, но Сашка успокоил, сказал, что здесь водятся только зайцы. Мы заблудились. Приближались сумерки, стало страшно, но я не плакала – со мной был Сашка. Он держал мою ладошку и уверенно вел вперед. Нам повезло, что встретился старик с телегой, полной скошенной травы, и спросил: «Внучка Андрея Федоровича, что ты здесь делаешь?» Он и привез нас домой. Голодных и грязных «путешественников» помыли и накормили. Когда я поела, мама впервые меня отругала, она кричала и плакала. Я дала себе клятву, что никогда в жизни у нее не будет повода сердиться на меня. И слово свое держала.
– Спи, Верочка. – Мама поцеловала меня, выключила свет и ушла. А я думала о моей тайне. Недавно, первый раз (и последний), я подралась с Сашкой. Бабушка, узнав об этом, сказала: «Тихоня, а если обидят, спуску никому не даст». Хорошо, что она не знает, почему это произошло. Сашка меня никогда не обижал, но ему хотелось, чтобы я всегда находилась рядом с ним, а не с Наташкой. И он ничего умнее придумать не мог, как дергать меня за косу, чтобы я за ним бегала. А когда я его догоняла (это было легко, он поддавался) и стучала кулачками по спине, смеялся. Но в тот день Сашка сказал, что мой папа моложе мамы на целых восемь лет и мог бы найти себе жену по возрасту. Он повторил слова соседки-старушки, так он оправдывался.
– А ты не повторяй глупости! – закричала я и поехала на велосипеде прямо на него. Сашка думал, что в последний момент я сверну. Но я не остановилась, задела его. Мы упали, я вскочила и набросилась на него: хватала за волосы, кусала руки, когда он пытался оторвать меня от себя.
Вечером он пришел к нам, просил прощения и окончательно стал «рыцарем-защитником», по словам дедушки. Но мысль о том, что моих родителей обсуждают и в чем-то укоряют, засела в голове, как колышек.
Мои наблюдения за родителями успокоили: разговаривают, улыбаются, вместе что-то делают в огороде. В сумерках сидят на скамейке в саду, я прячусь за кустом и вижу, как папа обнимает маму, она смеется, гладит его по голове, и он целует ее. Я смущаюсь и стремглав несусь к дому.
Взрослые таинственные и непонятные. Эти мысли занимают меня, но за день происходит столько важного, что они прячутся до следующего раза. Калейдоскоп реальных событий вплетается в мои причудливые сны: птица клюет червяка, я его оживляю; гусеница на раскрытой ладони превращается в бабочку; небо, выгоревшее на солнце, как глаза старухи, звучит нежной мелодией. Но к восторженному восприятию мира и радужным снам добавляются тени взрослого мира. Где получают знания, что помогут разгадать этот мир? В школе?
В первый класс меня провожали мама, бабушка и Сашка. Он несколько раз пытался взять меня за руку, но я ее отдергивала. Нельзя идти в школу за руку с мальчиком! Школьный двор напоминал огромный цветник: бабочки-девочки с белыми, пышными капроновыми бантами и в белоснежных фартучках, шмели-мальчики в темно-синих костюмах и белых рубашках. Стало страшно, и я схватила друга за руку, но он вскоре ушел: «Вера, я к своим».
Все четыре года Сашка носил мой портфель, набитый помимо школьных принадлежностей еще и книгами из библиотеки, иначе он волочился бы по земле – я невысокая и худая, силенок мало.
Некоторые мальчишки поначалу дразнили нас женихом и невестой, но Сашка сумел их остановить: кулаками он владел так же умело, как карандашами и кисточками – он любил рисовать.
Я доверяла моему другу все. Именно ему я рассказала историю с мелком. На перемене Ольга – еще ниже меня ростом, с лицом, похожим на мордочку мышки, – прочертила мелом (это оказался белый камешек) линию на доске и убежала. В тот день я отвечала за чистоту в классе, вытирала доску, но полоса не исчезала. Прозвенел звонок, вошла учительница и, увидев царапину, спросила, кто это сделал. Все молчали. Она ждала. Эти мучительные минуты убедили меня в том, что виновата я. Краска залила лицо. Знала я, что уши и шея тоже алые. Я всегда краснею, когда волнуюсь. Учительница решила, что это сделала я, не стала ругать и продолжила урок.
– Она подумала, это моя вина, – плакала я, жалуясь Сашке. Он успокаивал меня:
– Вера, главное, ты знаешь правду. И не выдала одноклассницу. Она сама должна признаться. Это же банально.
– А что такое «банально», Саша? Ты стал повторять это слово.
Он мне объяснял, а я думала: «Ольга никогда не признается. А я не стану ее уличать. Значит, учительница так и будет думать, что это сделала я».
Это чувство без вины виноватой, непонятно откуда взявшееся, засело глубоко и во взрослой жизни не раз возникало и лишало возможности защитить себя.
Летом, когда я окончила начальную школу, мы переехали в город Волжский, что в четырнадцати километрах от нашего поселка. Мама работала начальником отдела телефонистов, папа – мастером на заводе, который выпускал ткань для парашютов. Утром родители уезжали на трамвае; его остановка позади дома. За рельсами простиралась степь.
Первый день занятий в новой школе омрачился тем, что пришла весть о гибели четырех одноклассников. Они нашли в степи гильзы и противотанковую мину – эти отголоски войны еще прячутся в земле. Мина взорвалась. Говорят, мальчиков собирали по кусочкам, хоронили в закрытых гробах.
Через неделю в классе появилась девочка с рыжими волосами, как у Наташки, но лицо без веснушек, белое, гладкое, как камешек, что подарил Саша, с ямочкой на подбородке, как у моей мамы. Колечки волос выскочили из высокого хвоста и легли на покрасневшую от солнца шею. Она оглядывала все вокруг озорными, зелеными с серыми крапинками глазами. Оказалось, Лиза поселилась в том же доме, что и мы. Но я ее еще не видела.
– А мы вчера переехали в ваш город, – весело сказала она. – Давай дружить!
– Везет тебе на рыжих, – улыбнулась мама.
Рыжий Хвостик и Черный Хвостик – придумали мы себе тайные имена.
Мой друг огорчился, что я буду жить далеко от него. «Саша, я буду часто приезжать», – перед расставанием я стала называть его Сашей, по-взрослому.
Действительно, все выходные и каникулы я провожу в поселке. Он же несколько раз в неделю приезжает в город и ждет во дворе, когда я увижу его в окно. Я выхожу, он улыбается, я тянусь на носочках, чтобы увидеть себя в его глазах. Идем в центр города, кроны деревьев смыкаются зеленым сводом: получается античный проход, представляю, что это анфилады дворца (мы с Сашей рассматривали такие в книге). Я останавливаюсь и сквозь листья ловлю солнечные лучи. Зажмуриваюсь, но чувствую взгляд Саши.
– Смотри на солнце.
– Я смотрю, – отвечает он. – Оно такое красивое, и я его…
– Саша, побежали, – прерываю его.
Он уезжал, я тосковала по другу, по поселку, заблудившемуся в степи, по дому, по лавочке возле него – там вечером мальчишки рассказывали страшные истории. Мне не хватало кроткой и спокойной бабушки, строгого дедушки, наших с мамой вечеров, когда мы лежали в саду на топчане, укрывшись пледом. Мама рассказывала о звездах, мы искали их на ночном небе. Мне хотелось увидеть созвездие Лебедь в Северном полушарии. Мама говорила, что его так назвали в честь лебедя, в которого превратился Зевс во время одного из земных похождений.
Городские дома похожи друг на друга. В поселке у каждого свое выражение и настроение. Самый невзрачный – домишко Зуевых. Его старое лицо (как у деда с бабкой, что тут живут) перекошено и в темных морщинах. Крыша нависла над стенами, как повязанный до бровей платок. Кажется, домик чихнет – и развалится. Дом Наташки молодой и строгий, словно мужчина при должности; глаза-окна смотрят широко; на голове высокая шляпа. У соседей напротив – напоминает неряшливого человека, взъерошенного и заспанного. Наш – словно спокойная женщина в белом платке, с добрыми глазами.
В нашем поселке нет асфальта, но можно бегать босиком по мягкой пыльной дороге; на улицах мало деревьев, но у всех есть огороды и сады. Вода для полива идет по трубам от Ахтубы, питьевую достаем из колодца, и она вкуснее городской. Дедушка сказал, что в степи вода прячется далеко в земле, ее трудно отыскать, поэтому колодец очень глубокий. Бросишь ведро, закрепленное на цепи, и оно долго падает, гремит словно каторжник кандалами. Достаешь его, наматывая круги вокруг колодца и налегая на длинный деревянный рычаг (иногда несколько человек крутят его – так это тяжело).
Мы с Сашей любим заглядывать в колодец. Нам кажется, там кто-то прячется, но никого не видно – только густая сырая темнота. Бросаем вниз камешки, чтобы услышать плеск воды. Глухой звук таинственно поднимается вверх. Мы убегаем.
Слышала однажды, как дедушка говорил: «Время, как вода в глубоком колодце. Его не видно. Но сейчас оно напоминает о себе и торопится». Я догадалась: «Так вот кто прячется в колодце – время!» Я смотрела на стрелки будильника и не представляла, как они превращаются в воду и попадают в колодец. Теперь, когда давно нет ни дедушки, ни бабушки, и в колодец мне заглядывать не приходится, я ощущаю то равнодушную текучесть времени, то его вязкую тяжесть и лишь изредка – звонкое движение и прозрачность, чувствую его разную скорость во время разных событий моей жизни. И знаю, когда оно умирает…
Мы занимаем одну из трех комнат в коммунальной квартире, светлую и уютную, обклеенную молочными обоями с зелеными листьями. Мама купила красивые ковры: один повесили на стену, другой постелили на пол, шифоньер медового цвета, такого же дерева сервант (он, как большой медведь, прислонился к стене), круглый стол (бабушка подарила для него жаккардовую скатерть с рельефными узорами и бахромой), раскладной диван и большую кровать с железными спинками, похожую на корабль с белыми парусами – высокими подушками. На серванте часы из желтого оникса и статуэтка медвежонка из того же камня. Около дивана этажерка с книгами и альбомами с репродукциями картин.
В городе я сплю спокойно, поджога не боюсь – на втором этаже нас не достать.
Быт в квартире обустроен лучше, чем в поселке. Из кранов течет не только холодная вода, но и горячая. И самое главное – ванная комната! (Не надо ходить в баню и смотреть на голые тела. Бр-р-р…) В ней меня поразило странное «существо» на стене: большой черный цилиндр. Мама назвала его титаном. Я смеюсь. Титаны – боги, дети Урана и Геи, а в ванной – короб некрасивый, что нагревает воду. Долго не могла привыкнуть к его урчанию, исходящему из его нутра.
Окна нашей комнаты выходят во двор, где между деревьев натянуты веревки для сушки белья. Хозяйки следят, чтобы мальчишки, увлекшись буйными играми с палками и камнями, не испачкали его. Весь день из окон слышен крик разного тембра и силы, но с одинаковыми угрозами: «Отойдите от белья, вот я вам…»
За площадкой – гаражи. Машина, как я помню, была только у одной семьи, но гаражи – у всех. Их использовали для хранения велосипедов, сезонных вещей, картошки, банок с домашними соленьями и вареньем. Запирались они на огромные амбарные замки. Я не любила ходить в наш гараж, когда мама просила что-либо принести. Мне казалось, что-то неприятное прячется за чужими дверями, а если видела мужчин возле распахнутого гаража (нередко с бутылкой водки), то разворачивалась и возвращалась домой ни с чем. Я чувствовала опасность.
Я не сразу привыкла к тому, что мы живем в одной квартире с чужими людьми, делим с ними кухню и ванную.
После уютной кухни в поселке, с вкусными запахами, городская пугала холодом. Только на нашем столе постелена скатерть, на полке за стеклом – посуда, приборы, две вазы для цветов. На втором, деревянном, поцарапанном, – обгоревший старый чайник, рядом граненый стакан. Третий стол – новый, пустой.
Перед уходом на работу мама готовила обед и оставляла на кухне. Но супы и котлеты исчезали еще до того, как я возвращалась из школы. Чисто вымытые кастрюли и сковородки находились на своих местах, мне ничего не доставалось. Мама стала заносить еду в комнату.
Напротив нас жил дядя Слава – высокий, стройный и, как я теперь понимаю, молодой мужчина. Тогда он мне казался очень взрослым и очень умным – в больших очках, с большим портфелем. Суровый и неразговорчивый, он здоровался, не разжимая зубов.
Изредка к нему приходила женщина, светловолосая и голубоглазая. Я видела ее в приоткрытую дверь, когда дядя Слава выходил. Они прятались в комнате, там же готовили еду. Как я поняла из разговоров взрослых, у него была жена. Значит, это жена. Красивая.
Как-то появилась на пороге женщина – невысокая, смуглая, с черными длинными локонами.
– Привет! Я Галина. А как тебя зовут, девочка?
Я спросила:
– А вы кто?
– Я жена дяди Славы.
Странно. Две жены?! Галина появлялась редко. Они с дядей Славой спорили, часто ссорились.
Во второй комнате обитала Марья Степановна. К ней приходила сестра – Танька-Лошадь. Видимо, за высокий рост, статность и густые волосы ниже плеч она и получила свое прозвище. Марья Степановна и Татьяна несли в себе что-то нечистоплотное и низменное, что никак не соответствовало представлениям о жизни десятилетней девочки.
Лицо Марьи Степановны – бесцветное, словно гипсовая посмертная маска (такую я видела в журнале, посвященном Пушкину), на нем забыли дорисовать брови, ресницы, раскрасить губы; волосенки – жидкие и пегие, в мелких кудряшках, сквозь них светилась неприятная бледная кожа. Иногда кудряшки были тугие, как скрученная проволока, иногда разматывались и неряшливо падали на лоб, как грязные рваные тряпочки. Танька, по сравнению с ней, красавица: блестящие волосы и четко очерченные брови, но глаза водянистые и пустые. Я думала: «Ну какая же она лошадь? У лошадей такие прелестные умные глаза с поволокой и влажным блеском».
Обе курили. В то время это казалось невероятно странным. Женщины курят?! Они часто устраивали «сборища» – так судачили соседи по подъезду.
Однажды я услышала, как Танька, еще трезвая, говорила сестре в коридоре: «Маня, не пей больше. У тебя сердце». А через некоторое время сама выходила из комнаты, покачиваясь, роняла трофейный чайник, поднимала его и еще раз роняла уже в раковине. Я со страхом замирала, когда она несла его с кипятком.
В дни, когда у них собиралось «общество» (так Марья Степановна называла своих гостей), звучала музыка, слышались громкие разговоры, грубые слова.
Однажды я увидела, как из комнаты Марьи Степановны вышли голая белая женщина и шатающийся сквернословящий мужчина (он был одет), нежно державший даму под локоток. Стало противно, меня тошнило. Мама требовала прекратить пьянки, грозилась вызвать милицию, но это сделал дядя Слава. Милиционеры о чем-то поговорили в комнате у хозяйки и ушли. Все осталось по-старому.
На следующий день после таких собраний «общества» в коридоре висел противный запах табака, спиртного и еще чего-то такого мерзкого, что я зажимала нос, пробегая из комнаты в кухню. Настежь открытые окна в морозные дни не сразу могли очистить пространство от намертво впитавшегося в пол и стены липкого тошнотворного смрада.
Сестры выглядели весьма тускло и болезненно после бурной ночи. Марья Степановна, дымя папиросой, растрепанная и опухшая, брела на кухню за водой. Младшая уходила и возвращалась с каким-то аптечным флаконом.
Я знала, что Танька-Лошадь жила одна. У нее в соседнем квартале однокомнатная квартира, но почему-то все собирались у старшей сестры. Марья Степановна вызывала у меня брезгливость, ее младшая сестра – неприязнь, ей я отвела роль жертвы.
Как-то Танька долго уговаривала сестру не общаться «со своим сбродом». Но та отвечала, что это настоящие интеллигентные люди, просто несчастные.
– Давай куда-нибудь уедем, – предлагала Танька.
– Куда? – спрашивала Марья Степановна. – Ты забыла, почему мы не можем выехать из этого города? Ты забыла, почему мы здесь?
Однажды я услышала, как Марья Степановна спросила сестру:
– Ну, как твой дорогой Витюша? Увидишь, он тебе дорого достанется. Он партийный и никогда не оставит жену. А ты так и будешь ловить искры от его костра.
Танька ничего не ответила, но ушла заплаканная и несчастная. Да и Марья Степановна, казалось, всплакнула и ходила из комнаты в кухню и обратно, нервно попыхивая папиросой.
Как-то осенью я увидела Таньку и Витюшу в парке. Мы с Лизой шли по аллее, справа на тропинке я их и заметила. Они стояли близко друг к другу, казалось, им хотелось обняться, но они этого сделать не могли. Он, высокий и стройный, в длинном черном кожаном пальто, как романтический герой из фильма; она в сером по фигуре пальто, терракотовых туфлях на среднем каблуке, с черной лакированной сумочкой и с гвоздиками в руке – воздушная и красивая. Он ей что-то говорил, а она грустно качала головой, не соглашаясь.
В следующий раз я встретила их в этом же парке летом. Сухо. Пыльно. Душно. Все изнывали от жары. Они ели мороженое. На Таньке красивое шифоновое платье, в руке опять гвоздики. Я поразилась: глаза Татьяны были небесно-голубые и красивые. Я услышала: «Дорогой Витюша, поедем на море!» В этот раз она мне показалась маленькой девочкой, которая хотела получить долгожданный подарок.
Однажды Марья Степановна сказала мне, сверкнув золотым зубом, глазным, как она его называла: «Ты все читаешь? Хочешь быть самой умной? Ну-ну…» И резко замолчала.
Как-то она позвала меня к себе. Отказать я не могла. Мне стало жалко эту некрасивую несчастную женщину.
В комнате я задержала дыхание, но надолго меня не хватило. Так, наверное, пахнет смерть – холодно и сладковато-гнилостно. Замученный воздух хотел вырваться в приоткрытую форточку, очиститься и более уже не возвращаться в это страшное место. Бывшая медсестра, а теперь, как ее называли соседи, тунеядка, после сборищ наводила идеальный порядок. Она вычищала комнату какими-то особыми веществами (мне казалось, ядовитыми), их запах разносился по всей квартире и выползал в подъезд. На столе я увидела фонендоскоп. На окне – большую банку с жидкостью цвета чая, в которой плавало что-то неприятно-скользкое. «Это полезный гриб», – сказала Марья Степановна.
У нее было много книг (как потом я узнала – малая часть того, что осталось после конфискации). Книги завидные, но мне не хотелось их ни потрогать, ни тем более попросить почитать. Казалось, что и от них исходит тот же противный запах. Она предложила взять любую – я даже знала, какую хочу, – но я отказалась.
– Понятно, – произнесла она. – Ну-ну, посмотрим, что из тебя вырастет.
Она рассказывала о себе и о родных, и я узнавала иную жизнь, о которой раньше понятия не имела, сопереживала интеллигентной семье, перенесшей донос, тюрьму, ссылку в степной край. «Родителей нет, а мы с Таней не можем вернуться в родной Ленинград».
С тех пор я жалела сестер. Мне хотелось знать, какими они были в детстве, когда их волосы были чистыми и шелковистыми и пахли свежестью и ландышевыми духами. Это степная пыль окутала девочек и заколдовала. Я представляла, какими они будут в старости: в пуховых серых платках, в грубых пальто, обтягивающих их располневшие тела спереди и скомканных на спине некрасивыми валиками, в мягких бесформенных башмаках, не скрывающих деформированные косточки больших пальцев.
Мир Марьи Степановны – болото, внутри которого прячется бормочущий зверь и ждет момента, чтобы утащить в грязную муть. Надо знать место, куда ступить, чтобы не погибнуть. Таким спасительным островком являлась моя семья, где витал запах чистого счастья. Мой мир похож на красивый пруд с кувшинками, ивами, что полощут свои косы в изумрудной воде, с танцующими водомерками, с лягушками-певуньями. Лишь изредка ветер всколыхнет спокойную воду, да напугает уж, высунувший любопытную головку.
Два мира не уживались в моем сознании. Открывшийся – жесткий, чуждый моим представлениям о жизни – вступал в противоборство с миром чистоты и доброты. Потрясение явилось настолько сильным, что борьба между ними продолжалась и во сне, когда я видела вырвавшиеся из таинственного сундука мрачные тени, что душили меня, и я бежала к спасительному колодцу, что напоит живой водой.