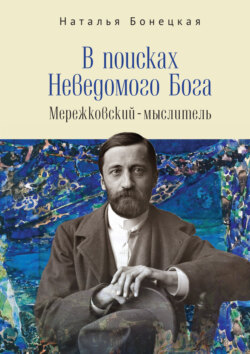Читать книгу В поисках Неведомого Бога. Мережковский–мыслитель - Н. К. Бонецкая - Страница 2
От автора
ОглавлениеМережковский – писатель не для всех. Этим я не хочу сказать, что его сочинения – достояние некоей интеллектуальной элиты или обладателей специальных знаний. Мережковский пишет просто, чтение не одних его романов, но и трактатов не требует напряжённых усилий. Русское философствование вообще держится жизненного человеческого мышления, не уходит в сложные абстракции, что свойственно немцам. Русские философы Серебряного века все размышляли о бытии – но совсем не так, как, к примеру, их современник Хайдеггер. Мережковскому к тому же вряд ли подходит имя собственно философа: он погружён в жизненную конкретику, слишком ценит не общее, а частное, – в особенности, уникальную человеческую личность. Он субъективен до лиризма, даже до пронзительности экзистенциалистов (на мой взгляд, его духовный брат – это первый отечественный экзистенциалист Лев Шестов, – брат хотя бы по их общему отцу – Фридриху Ницше). И с этим связано то, что преграды между ним и самими собой мы даже в XXI веке не чувствуем.
Так почему же этот автор увлекательнейших, остроумных – до глубокомыслия, разнообразных по жанрам текстов «не для всех»? Я имею в виду, что он – не для всех, но для каждого, что его слово обращено к «я» читателя – к сокровенной, подчас тайной и для этого последнего его глубине. Потому воззрения Мережковского невозможно превратить в идеологию – сделать достоянием «всех». «Зачем нам нужен Мережковский? зачем – Серебряный век?» – мы, воспитанные в духе идеологии (разумеется, «единственно верной»; ныне на место марксизма-ленинизма норовят водрузить православие, патриотизм, русскую идею и т. и.), привыкли к такого рода вопросам. И впрямь: Серебряный век – это эпоха декаданса, как с точки зрения материалиста, так и христианина (конечно, «упадок» ими понимается по-разному). Разрушение основ этики – многовековых представлений о добре и зле; неоязыческие искания; увлечение оккультизмом; аморальность в жизни – таков далеко не полный перечень духовно-упадочных тогдашних культурных тенденций. В течение нескольких революционных (имею в виду революцию духовную) десятилетий сложился совершенно новый для России антропологический тип – человек над бездной, – индивид без мировоззренческих опор, без бытийственной почвы. И интеллектуалы довели до апофеоза свою беспочвенность, как бы возжелали пребывать в бесконечном становлении. Пафос «переоценки всех ценностей» (Ницше) оформился в целый ряд философских концептов: это несотворенная свобода Бердяева, абсурд Льва Шестова, двоящиеся мысли Мережковского. Ясно, что подобные понятия не могу быть положены в основание общезначимого учения, – философия раскрепостившегося духа – не для всех.
Невозможность превращения в идеологию, утилизации, возникает в связи с воззрением Мережковского в сугубой степени. В сонме мыслителей Серебряного века он – едва ли не самый отчаянный путаник и фантазер. Художник в основе, своим даром вымысла он дерзко пользовался и в области теоретической мысли. В его творчестве и жизненных экспериментах явные ошибки и просчеты громоздятся на ошибках же. Кто сейчас всерьёз станет исповедовать его учение о Третьем Завете, о Духе Матери, – о пресловутой Тайне Трёх? Может ли быть возрождена основанная Мережковским и Зинаидой Гиппиус секта «Наша Церковь» – искусственное смешение православия с нездоровой эротикой? А вера в возможность скорого наступления Царства Божия через свержение царизма и последующую анархию? А культивирование странной четой Мережковских террориста Савинкова? И так дальше и дальше. Я уж не говорю о том, что некоторые пассажи Дмитрия Сергеевича без преувеличения можно расценить как прямой сатанизм, – скажем, одобрение расстрела Причастия, о чём в «Дневнике писателя» сообщил Достоевский, или положительную оценку преступления Раскольникова и, соответственно, развенчание его раскаяния… Демонично и представление Мережковского о смыкании «верхней» и «нижней» «бездн», уравнивание им в достоинстве путей добра и зла. В своей книге начала 1900-х годов о Толстом и Достоевском мыслитель заявил о Ницше как о новом святом – святом Третьего Завета; но ницшеанская закваска его творчества дает знать о себе и в сочинениях 1920-1930-х годов.
Итак, вопрос: «Нужен ли нам – русскому народу, русской культуре – такой писатель, как Мережковский?» – может быть поставлен вполне всерьёз. Он очень талантлив, но если свой дар слова он использовал для обоснования ложных и вредных идей? Однако, быть может, не все его концепции ошибочны и пагубны? В его творческой копилке не хранится ли нечто продуктивное, выдерживающее испытание временем, оправданное нравственным судом? Читатель, возможно, согласится, что меткой догадкой, если и не пророческим прозрением, было представление Мережковского о Грядущем Хаме – о торжествующей победе в недалеком будущем и во всемирном масштабе духа смердяковской пошлости, воинствующего тупого мещанства над всем высоким и чистым. Именно таким видел зло наш мыслитель, и люциферическая бравада – отнюдь не последнее его этическое суждение. А весьма тонкая, лично выстраданная мысль о том, что различить, на самом деле, добро и зло порой до невозможности трудно? В книге 1932 года «Иисус Неизвестный» эта мысль обострена до предела: Христос и Антихрист здесь представлены метафизическими двойниками, причем самому Иисусу было дано пережить страшную – почти до одержимости Другим – близость к его антиподу. Конечно, Иисус Неизвестный – плод художественно-богословской фантазии Мережковского, и его собственные «апокрифы», составляющие основу книги, не стоит принимать совсем уж всерьез. Лично меня представление о Христовых двойниках коробит, но оно, возможно, поможет кому-то в деле различения духов…
Но настоящим коньком Мережковского является тема человека. Наверное, именно его (а не возможных тут конкурентов – Шестова, Бердяева) следует признать основоположником отечественной философской антропологии. Предтечи Мережковского здесь (если не считать писателей-классиков) – это Соловьёв (введший в обиход мысли понятие Богочеловечества) и Ницше (на место Бога предложивший мировоззренчески поставить сверхчеловека). Однако если бы потребовалось одним словом назвать философский предмет, занимающий мыслителя, то именно о Мережковском мы были бы вправе сказать: человек в неотьемлемой от него тайне – вот средоточие его всегдашнего интереса. Под пером Мережковского человек стал бесконечно сложнее, противоречивей, загадочней по сравнению с его традиционно-христианской моделью. Даже еще Достоевский суть «внутреннего человека» свел к борьбе Бога с дьяволом в его сердце; но вот Мережковскому (ученику, кстати, Достоевского) открылось, что грех может маскироваться под добродетель, святость же – представать в обличье греха. Здесь у Мережковского опять-таки много несуразностей. Скажем, он тонко и зло диффамирует преподобного Серафима Саровского («Последний святой») и при этом склонен восхищаться католической святостью («Испанские мистики»), осуждаемой – за ее безудержный эротизм – православными аскетами. Тем не менее в вопросе о человеке многовековой лед христианской мысли все же должен был тронуться по причинам объективным, – и в этом, в частности, заслуга Мережковского. Духовная жизнь человека – это не одна борьба со страстями, и в первую очередь не она, но также и творчество, дерзновение, риск.
Мережковского занимают великие люди, преодолевшие в себе человека заурядного, – за этим интересом просматривается гипотетический ницшевский сверхчеловек. Писатель-философ создает целую портретную галерею, где несколько «залов» – святые и религиозные деятели, полководцы и государственные мужи, поэты и прозаики, художники, мыслители… И автор этих портретов выступает не просто как ученый биограф (это лишь фундамент «биографики» – науки, задуманной Флоренским, а на деле созданной Мережковским), но как гностик, «конкретный идеалист» (термин опять-таки Флоренского). Мережковский гениален в постижении идеи конкретной личности. Верны ли его прозрения – в ноуменальность (не побоюсь этого слова) Толстого и Достоевского, Тургенева в его религиозности, Соловьёва в его тайне («Немой пророк»), Гоголя в его сокровенном аскетическом делании («Гоголь и чёрт»); а затем – Юлиана Отступника и Марка Аврелия, апостола Павла, великой Терезы и святого Франциска; Лютера и Кальвина, Петра и Александра Первых, Наполеона и дальше, и дальше? Гуманитарный гнозис Мережковского в своей книге я называю герменевтикой – искусством интерпретации (текстов) в широчайшем смысле. Но искусство – деятельность предельно свободная, и толкования Мережковского не только не исключают иных подходов, но как бы даже нуждаются в альтернативах. Важно то, что Мережковскому очень часто доверяешь, – убедить в том, в чем убежден сам, он умеет с блеском… Длиннейший ряд духовных портретов в творчестве этого мыслителя (трудно определимого типа) как бы увенчан образом Иисуса из Назарета. Я сознательно не говорю – Христа, поскольку Мережковский намеревался создать не икону, но именно портрет, причем особый – как бы многоракурсный, объемный и подвижный, – быть может, кинопортрет живого Человека.
И снова: книга об Иисусе Неизвестном – не для всех. Иисус Евангелия от Мережковского не вправе почитаться за Бога современности, ведение там Спасителя – явно искажённое, уж никак не объективное. Субъективность этого образа настолько вопиюща, что многие проявления Иисуса заставляют вспомнить о раздвоённости героев романов Достоевского, открытой молодым Мережковским. Этот труд Мережковского особенно проблематичен, и самый яростный отпор его ждет в современной – неофитской России. Не относя себя саму к этому племени, давно расставшись с неофитской радикальностью, я тем не менее отнюдь не поклонница центральной, быть может, книги Мережковского. По-моему, в ней нет органического единства, она сумбурна, эклектична во всем, верность преданию в ней идет рука об руку с кощунствами и пр. – главное, она скучновата, местами выспренно-натужна, грешит наигранно-благочестивой интонацией. Однако я прочла ее не один раз – и, считая за весьма значительное явление в русской культуре, посвятила ей исследование, которое включено в данную монографию. «Иисуса Неизвестного» надо не только читать, но и изучать – посвящать в гуманитарных и духовных школах семинары, конференции этому феномену, поскольку он симптоматичен.
И здесь я вновь обращаюсь к той антиномии, через которую вижу творчество Мережковского: оно – не для всех, но для всякого, кому не безразличны судьбы нашей духовной культуры. Не стану в связи с этим останавливаться на тривиальном: в воззрение Мережковского прежде всего должен погружаться тот, кто хочет распознать метаморфозы русского духа. Нравится ли это кому или нет, умнейшие и совестливейшие люди России на рубеже XIX–XX веков пришли к тому, к чему пришли – вместе к Богу и к Ницше (провозгласившему, что «Бог умер»), к Христу и к антихристу. Постницшевское христианство – это факт, это вызов, который нельзя оставить без ответа. Серебряный век был не только декадансом, но и невероятным творческим взлетом, и Мережковский – вместе с Соловьёвым и с Шестовым, но на свой собственный лад, был отцом данной эпохи. – Но это опять получается, что Мережковский – все же если не для всех, то для многих, – для некоего «мы», которые заявят: да, этот писатель по ряду причин нам нужен. Однако я продолжаю настаивать и на другом: по преимуществу оценит тексты Мережковского не какая-либо человеческая общность, но отдельная личность; его идея, заявленная с кафедры, ссохнется до схемы, – зато воспринятая душой в келейном уединении, она предстанет яркой, свежей – неизменно живой. Слово Мережковского воскресает главным образом на почве «я»; стоит ли вновь повторять, что, объективированные, давно умерли – стали экспонатами эпохального музея Серебряного века, концепты Третьего Завета, двух бездн, манихейского – и лицами Христа и дьявола – «бога» Мережковского…
В чём же тут дело? Основание для того, что не подлежащий идеологизации, поборник многих не подходящих для императивов концепций, подпадавший неслыханной мыслительной гордыне (мнящий, к примеру, что знает тайны Св. Троицы) Мережковский тем не менее с благодарной любовью воспринимается читательским «я», заключено в следующем. Суть дарования Мережковского – пронзительный лиризм, он и начинал в качестве поэта-лирика.
О темный ангел одиночества,
Ты веешь вновь,
И шепчешь вновь свои пророчества:
«Не верь в любовь!
Узнал ли голос мой таинственный?»
О милый мой,
Я – ангел детства, друг единственный,
Всегда с тобой. <…>
Полны могильной безмятежностью
Твои шаги.
Кого люблю с бессмертой нежностью,
И те – враги!
(1895)
Лиризм скромного поэта, подражателя Надсона, мало-помалу претворился в неотрефлексированный экзистенциалистский философский пафос. Тексты Мережковского, какой бы ни была их тема, всегда скрыто исповедальны, и их суть раскрывается читателю после того, как он сердечным чувством откроет в дискурсе его исток – авторское «я». И здесь то ли произойдет отождествление с этим «я» читательского «я», то ли начнется диалог с автором реципиента текста, – так или иначе, осуществится – через эпохальные барьеры – моя встреча с Мережковским. Но встреча – событие бытийственное, для ее участников (в данном случае для читателя) это просвет в ноуменальность, ибо встреча мистична. Встречу можно расценить как вспышку света, на миг озарившего незнакомое пространство. И пережив встречу с авторским «я» (оно может проблеснуть и в глазах героя), читатель как бы изнутри начинает осваивать художественное или философское произведение.
Многие тексты Мережковского – на грани художественно-философской. Таковы его жизнеописания любимых «вечных спутников», вплоть до величайшего – Иисуса Неизвестного, и чтимой с благоговением, уже в преддверии кончины, святой – «малой» Терезы. Такими были и его литературно-критические этюды – о Гоголе, Соловьёве, – даже и труд о Толстом и Достоевском: Лев Толстой в нем, на мой взгляд, это художественный образ, созданный Мережковским. В романах же Мережковского поднимаются мучительные для мыслителя религиозно-философские проблемы. Скажем, в «Тутанкамоне на Крите» (равно и в «Мессии») передана с предельной силой пронзительная тоска древних народов по Спасителю, что было пафосом учения Мережковского об исторической преемственности христианства по отношению к язычеству. Порой же диалектика – вернее, философская игра антиномических концептов (Христос, Антихрист) художником олицетворена и воплощена во всем известных исторических сюжетах (противостояние Петра и Алексея во втором романе ранней трилогии). – Но вот человек, – а я настаиваю на том, что именно человек, в его тайне, является центром воззрения Мережковского, – изображается им всегда как субъект, как «я», – в его экзистенции. Мережковский, о ком бы он ни писал, всегда стремится передать сокровенный бытийственный опыт личности. Правым или лжецом оказывается при этом дерзновенный гностик, переживало ли данный опыт историческое лицо, тот ли смысл писатели-классики (Толстой, Достоевский) подразумевали в связи со своими героями – я сейчас говорю не об этом. Гипотетический опыт «я», воспроизводимый Мережковским, читатель воспримет как свой собственный (с поправкой на эстетическую дистанцию). Это связано с тайной человеческого «я», с невероятной диалектикой: «я» – одно и то же у всех, абсолютно разнящихся личностей.
И здесь я подхожу к самой сути своего тезиса: Мережковский – это писатель, обращенный, как к интимному другу, к своему далекому-близкому читателю. Вбирая в душу порой потрясающий глубинный опыт великих людей, простой, маленький человек, этот читатель, может раздвинуть ее, обогатив интуициями и прозрениями гениев. Гностик-Мережковский умел передать другому истины ноуменальные. Те состояния, которые переживал умирающий Гоголь; мука «опрощения» Толстого; раздвоенность – дифференцированно: воли, ума, чувства – героев Достоевского (соответственно: Раскольникова, Ивана Карамазова, князя Мышкина); способная довести до безумия ситуация двойничества – искушаемый после Крещения Иисус Неизвестный мгновениями ощущал себя своим Врагом: читатель Мережковского напитывается этими уникальнейшими глубинными интуициями, прочитав подлинно гностические, а на языке Флоренского – «конкретно-идеалистические» (т. е. представляющие платоновские эйдосы в их конкретности) труды нашего мыслителя. А непостижимый (и для нас прельстительный) опыт «богосупружества» Терезы Авильской? А мистическая «темная ночь» Хуана де ла Крус («Испанские мистики»)? Мережковский как бы презирает те барьеры культур и цивилизаций, о которых писал Шпенглер, те духовно-эволюционные скачки, которые Серебряному веку открыл Штейнер. Но вот как бы карандашные наброски лиц русских писателей: один штрих порой ценнее тщательно выписанного маслом полотна. Тургенев, почувствовавший Христа в крестьянине, оказавшемся рядом с писателем за богослужением, немедленно утрачивает свой привычный ярлык атеиста: в стихотворении в прозе «Христос», говорит нам Мережковский, передано высокое религиозное откровение, которого был удостоен этот русский европеец. Не сообщает ли критик-гностик о Лермонтове фактически всё, когда доказывает, что центральной бытийственной интуицией великого поэта была метафизическая тоска по небесной родине? Образ же Соловьёва, который его почитатели уже в начале XX века были готовы превратить в икону, под пером Мережковского словно дает глубокую трещину: демонический хохот, которым подает голос сама дионисийская бездна – «пучина греха», который смущал близких Соловьёва, если не упраздняет концепцию «рыцаря-монаха» (Блок), то выявляет в этом странном лике неожиданно новое измерение.
Этот перечень имен великих можно продолжать и продолжать: Мережковский обладал редким даром понимания каждого своего «вечного спутника» в качестве субъекта – как «я»; не был ли он тем самым близок к исполнению Христовой заповеди – любить другого, как самого себя?.. И писатель был способен также и донести – средствами художественного ли, философского ли слова – экзистенциальный опыт собственных «вечных спутников» до читателя. Для последнего погружение в тексты Мережковского – это не просто стяжание великого духовного богатства, но и личностный рост. Надо сказать, что философская антропология Мережковского (это более привычное название для его гностической биографики) богаче и глубже соответствующих концепций Шестова и Бердяева, также проблематизировавших экзистенциальный опыт человека. Шестов, интерпретатор текстов, тоже пристално всматривается в экзистенцию великих – их авторов; «подопытными кроликами» (так героев Шестова назвал С. Булгаков) в его герменевтической лаборатории оказывается тоже огромное множество лиц – от библейского Авраама, античных философов и средневековых номиналистов до Ницше, Толстого и Достоевского, Гуссерля… Однако «странствование по душам» Шестова, в отличие от аналогичного же «странствования» Мережковского, неизменно вело к одному – к «весам Иова», где на одной чаше находится индивид с его «правдой», а на другой – всеобщий нравственный закон. У Шестова получается, что Плотин и Пушкин, Кьеркегор и Ницше, Лютер и Достоевский и пр. – что все великие из милого шестовскому сердцу сонма обладали одним и тем же, неизменным во все времена экзистенциальным опытом: они боролись с общезначимой истиной…. Шестов, видно, писал всегда о себе; о себе же – «человеке с двоящимися мыслями», хотелось писать и Мережковскому, почему он «раздвоил» даже и Христа, когда экзистенцию Богочеловека обозначил как борьбу в его душе «страха страдания» и «страсти к страданию». Однако Мережковский нередко умел и оторваться от себя, увлекшись всерьез другим, интимно полюбив своего героя. Мир экзистенциальных идей у Мережковского многолик; одну же единственную экзистенцию – авторскую – мы находим не только у Шестова, но и у Бердяева. Но бердяевский опыт несотворенной свободы и творчества вряд ли оказался кому-либо до конца понятным: даже С. Булгаков, близко общавшийся с Н. А. на протяжении многих лет, часто иронизировал над этим загадочным «творчеством» того, кого (ошибочно!) не считал за особо творческого человека (см. булгаковские письма 1900-1910-х годов в сб. «Взыскующие Града»). Подлинным гностиком, способным к глубинному познанию другого, был именно Мережковский. Бердяев же, хотя и считал себя таковым, был скорее виртуозом единственно самопознания. То же самое приходится сказать и о Шестове. Впрочем, слово Шестова, оперирующего чужими текстами, обладает редкой убедительностью. Защищая его концепцию «весов Иова», можно указать на факт очевидный: действительно, гениальная, пассионарная личность всегда противостоит, со своей правдой, массе, обществу, устоявшемуся воззрению, – сильный человек всегда одинок, как говорил Йун Габриэль Боркман у Ибсена…
И вот еще одно маленькое, но важнейшее добавление к существу моего утверждения: Мережковский – автор не для всех, однако – для всякого. А именно: чтение его текстов не только расширяет «я» читателя, но и помогает ему в великом деле самопознания. Можно тотчас же запротестовать: а почему, собственно, я познаю себя, прикасаясь к опыту Толстого? или католических мистиков? или Плиния Младшего и пр.? Православный пурист скажет: самопознание – это ведение собственных грехов, а какое мне дело до грехов Ницше или Раскольникова, тем более если они представлены Мережковским в качестве добродетелей? Но я исхожу из того, что все субъекты, живые и усопшие, бесчисленные как песок морской, – все причастны единому всечеловеческому «Я»: об этом «Я» философствовал Фихте, его же, великое «Я», разумели русские мыслители в связи с Софией – Церковью. Так вот, приобщение к чужому я-опыту, к экзистенции другого, индуцирует, как один магнит индуцирует другой, мою экзистенцию, актуализирует мое собственное «я». Встреча с другим субъектом пробуждает меня как субъекта. Но такое пробуждение в человеке его «я» – первый, и при этом важнейший момент самопознания. И православному пуристу я скажу: для ведения своих страстей человеку потребен субъект этого ведения, пребывающая вне этих аффектов экзистенциальная точка. Если ее нет или на в состоянии латентном, никакое самопознание и покаяние невозможны. Но экзистенциальный центр, как и всякий жизненно важный член, орган человека, надо культивировать, развивать – хотя бы будить! Это и делает своими, в сущности, исповедальными текстами один из отцов Серебряного века – основатель русской философской антропологии и герменевтики, «новый богослов», романист, поэт и публицист (может, и кто-нибудь еще) Дмитрий Сергеевич Мережковский.
В Приложении к основному корпусу книги помещено мое исследование «Мережковский и пути постницшевского христианства»: там обозначено место Мережковского в кругу русских мыслителей-ницшеанцев.
Сентябрь 2016 г., Кубинка (дача «Кактус»)