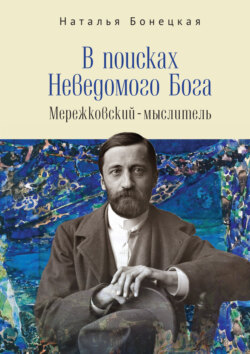Читать книгу В поисках Неведомого Бога. Мережковский–мыслитель - Н. К. Бонецкая - Страница 6
Д. С. Мережковский: Герменевтика и экзегетика[1]
Герменевтика западная и герменевтика русская
ОглавлениеРассуждая о специфике герменевтики Хайдеггера, его последователь Гадамер постоянно указывает на безличный характер герменевтического события: Хайдеггер стремился «понять онтологическую структуру произведения искусства независимо от субъективности его творца или созерцателя»[69]. Если, как пишет Хайдеггер в трактате «Исток художественного творения» (1935), в произведении являет себя, «просветляется сокрывающееся бытие»[70]; если, как заявляет Гадамер, в нем звучит «голос, каким говорит само произведение»[71], – то, «разумеется, говорит здесь не художник», а «опосредующий опыт мира» «язык художественного произведения»[72]. В западной герменевтике, избегающей категории, прежде всего, авторства, как бы забывшей о романтическом «гении», роль творца предельно умалена – сведена к функции ремесленника-«со-зидателя» (Хайдеггер), а то и медиума бытийственного «откровения». «В художественном творении совершается совсем особая манифестация истины»[73]: попробуем разобраться, в чем корень такого воззрения.
Характер хайдеггеровской герменевтики обусловлен ее «богословским началом»: «Титул «герменевтика» был для меня привычным из-за моих богословских штудий»[74], признает мыслитель – выпускник теологического факультета университета Фрайбурга, интересовавшийся в 1910-х гг. проблемами экзегезы. Но именно библейские «штудии» способны привести к представлению о тексте, не имеющем автора, – точнее сказать, о «совсем особом» авторстве. Ведь когда изнутри традиции размышляют об истоке Библии, то имеют в виду ее богодухновенность – высочайшего Автора. В детали же авторства земного углубляется разве что критика, которая часто лишь подтверждает традиционные представления. Потому священные тексты либо считаются анонимными, либо устанавливается их «коллективное» авторство (Псалтирь), либо обсуждается их помеченность известными авторитетными именами. Во всяком случае, при экзегезе авторство текста если и не игнорируется полностью, то все же не является значительной ценностью. Так, личность евангелистов-синоптиков сведена к имени-метке (Матфей, Марк, Лука), будучи лишенной индивидуальных черт, – образ же «Иоанна» двоится или троится…
Хайдеггер признается, что на его мышление всегда давили принципы библейской экзегезы. Как богослова, в 1910-е гг. его «особенно занимал вопрос об отношении между словом Священного писания и богословско-спекулятивной мыслью», – а это собственно герменевтическая проблема. И вот его рефлексия 1930-х данного факта: «Это было <…> то же отношение, т. е. между языком и бытием <…>»[75]. Как Слово Божие звучит в библейских текстах, таким же самым образом в художественных произведениях бытие обнаруживает себя в языке, «истина становится событием откровения»[76]. Как видно, комментируя герменевтические идеи Хайдеггера, Гадамер неслучайно использует богословские понятия.
В хайдеггеровскую герменевтику богословские принципы проникали и из воззрений теолога-экзистенциалиста Р. Бультмана. Исследователями немало сказано об идейном взаимовлиянии друзей и коллег по работе в Марбургском университете в 1920-х годах – Хайдеггера и Бультмана. Керигматическое богословие Бультмана опирается на представление о спасительном провозвестии (керигме), содержащемся в новозаветном слове. При этом сам «Христос, Распятый и Воскресший, встречает нас в слове провозвестия»[77]. Очевидно, что стремящийся к «демифологизации» традиционных трактовок Нового Завета Бультман тем не менее использует именно мифологический дискурс. Керигма, по Бультману, обращена к каждому человеку и затрагивает самую глубину его существования – возмущая, бросая вызов и призывая к пересмотру жизни. Керигма судьбоносна, ибо это есть «Слово Божье, перед лицом которого мы должны <…> отвечать на вопрос, поставленный перед нами: хотим мы в него поверить или нет»[78], выберем ли мы путь жизни или путь смерти. Такая «затронутость» человека Богом силою провозвестия – нерв керигматического экзистенциального богословия. Но разве мы не находим ту же в точности интуицию в ключевом тезисе Гадамера – комментатора герменевтики Хайдеггера: «Понимание начинается с того, что нечто обращается к нам и нас задевает. Вот наиглавнейшее герменевтическое условие»[79]? «Скандализирующая» керигма в герменевтике Хайдеггера – Гадамера секуляризируется, когда Гадамер сравнивает проявление великого произведения искусства с «ударом», которым оно «опрокидывает все прежнее, привычное, – тогда разверзается мир, какого не было прежде»[80]. И когда Хайдеггер заявляет, что «бытие есть окликающий зов, обращенный к человеку»[81], то он переводит на язык собственных категорий мысль Бультмана о том, что «Бог сам «находит» человека <…> и обращается к нему»[82]. Принципиальная разница этих двух подходов в том, что у Бультмана посредством текста вещает личностный живой Бог, у Хайдеггера – загадочное «бытие». Воззрения Хайдеггера и Гадамера, воспроизводящие формальное строение бультмановской керигмы, хочется в силу вышесказанного назвать квазибогословием.
Однако с тем же правом дискурс Хайдеггера может считаться квазисекулярным. Хайдеггер «близко подходит к той сфере, где кончается философское размышление и начинается мистическое созерцание»[83]: духовной традицией, к которой принадлежит философствование Хайдеггера, П.П. Гайденко считает традицию немецкой мистики. «Хайдеггеровскому понятию бытия у Экхарта соответствует понятие Божества»[84], у Бёме – Ungrund’a. Учитывая ориентацию Хайдеггера на досократиков, можно провести параллель между «бытием» и Логосом, а также «природой» Гераклита, которая «любит скрываться». – Вместе с тем для нас очевидно подобие бытийственных интуиций Хайдеггера буддийской религиозности. Сам Хайдеггер говорил о своем интересе к японской мысли[85]; глубокому созвучию хайдеггеровской герменевтики японскому мировидению специально посвящена работа Хайдеггера «Из диалога о языке. Между японцем и спрашивающим». Разработка темы «Хайдеггер и дзэн-буддизм» может представлять для исследователя большой интерес. Здесь мы лишь заметим, что с этой японской разновидностью буддизма (религией? мистическим учением? духовной практикой?) воззрения Хайдеггера роднит принципиально безличный характер обоих. Дзэн обращен к «бездонной пропасти реальности» (аналог бытийственной бездны Хайдеггера), иначе сказать – к «высшему разуму» или высшему «бессознательному»[86]. Это «Единое» являет себя в светоносном экстатическом опыте сатори – пробуждения, потрясающего все существо адепта, отрешившегося прежде от всех индивидуальных черт. Недоверие дзэна к рассудочному мышлению и отражающему его языку сказалось в монашеской практике коанов и мондо, эти жанры общения учителя с учениками, выработавшие свой собственный, непонятный для непосвященных аллегорический язык, призваны разрушить профанный, земной разум стремящегося к «просветлению». Но разве не такова и глубинная цель заумного дискурса Хайдеггера? В своем стремлении опровергнуть «догматические», т. е. «онтологические» «предрассудки» европейской метафизики[87]Хайдеггер эпатирующе нарушает законы логики[88] и на место привычных категорий ставит мифологические понятия («спор мира и земли» в художественном творении). То, что мыслитель фактически элиминирует из герменевтической ситуации личность автора художественного произведения, связано с его общефилософской борьбой с «субъективизмом, характерным вообще для метафизической эпохи»[89].
В отличие от западной, герменевтика русская, в лице ее основателя Мережковского, позиционирует себя как «критика субъективная»[90]. А именно, ее дискурс разворачивается в поле между двумя субъектами – критиком и автором. Цель «субъективного критика» – во-первых, «показать за книгой живую душу писателя», а во-вторых – «действие этой души <…> на ум, волю, сердце, на всю внутреннюю жизнь критика». Благодаря именно этой двойственной установке возникла галерея духовных портретов великих писателей, порой великолепных, порой все же искаженных попыткой Мережковского вчувствовать в «душу» «великого незнакомца» свое собственное религиозное сознание. Очевидно, Мережковский считал продуктивной историческую дистанцию между писателем и критиком, когда замечал: «Каждый век, каждое поколение требует объяснения великих писателей прошлого в своем свете, в своем духе, под своим углом зрения»[91]. Русский мыслитель рассуждал отнюдь не в ключе до-хайдеггеровской герменевтики с ее мнимой объективностью – утопией слияния с чужой индивидуальностью, постижения ушедшей эпохи с позиции ее современника. В несложной герменевтической программе Мережковского распознаются такие категории Хайдеггера – Гадамера, как предмнение и временное отстояние, – в ней вообще присутствует вся структура герменевтического круга. Но детально разработанной герменевтической теории у Мережковского нет; его «глубокаямудрость»[92]-дар гностика, проникающего в чужой дух, – сказалась в конкретных герменевтических исследованиях. Хайдеггер всю жизнь как бы готовился к ним, – но на солиднейшем фундаменте «Бытия и времени», «Истока художественного творения» и бесконечных «разговоров о языке» возникли лишь интерпретация «Крестьянских башмаков» Ван Гога и анализ нескольких текстов немецких романтиков. Не перевешивает ли плоды западной герменевтики вереница великолепных исторических романов, «критических» монографий и трактатов, давших импульс всей последующей русской мысли, вместе с серией жизнеописаний великих людей, – герменевтическое, по своей методологии, наследие Мережковского?..
Воссоздавая облик «живой души писателя», Мережковский мыслит как символист. Глубочайшее идейное содержание он иногда обнаруживает не столько в текстах, сколько в бытовых проявлениях и писательской внешности. Показателен в этом отношении очерк о Вл. Соловьеве «Немой пророк» (1909): он весь построен на обсуждении того герменевтического элемента, который у Хайдеггера назван «землей» (в произведении «спорящей» с «миром»), – сокровенной, не выявленной в тексте глубины бытия, – у Мережковского – личности тайнозрителя Софии. «Слова даны людям для того, чтобы скрывать свои мысли»: этот известный афоризм Мережковский вспоминает в связи с феноменом Соловьева, чье «тайное лицо» плотно закрыто его «остроумной и красноречивой философией»[93]. Герменевтика Мережковского это интерпретация всего жизненного образа писателя – поступков и внешних черт, случайных обмолвок, – наконец, молчания, «немоты». Едва ли не самым значительным символом загадочной и мрачной души Соловьева Мережковский считает его инфернальный смех, шокировавший современников: «Сквозь торжественную симфонию «Оправдания добра» или «Чтений о Богочеловечестве» мне слышится порою этот страшный смех»[94]. Сочинения Соловьева Мережковский воспринимал как консервативные, если не реакционные, – ведь в них философ тщился возродить старые церковность, государственность, нравственность. Но в соловьевском смехе критику слышатся «надрыв» и «одурение тоски», отрицающие его «дневные» идеалы. «Немота» Соловьева – она, кроме смеха, охватывает и соловьевское «безумие», и встречи с «подругой вечной», и нехождение в церковь, и великое одиночество – это «вещая», «пророческая» немота. И как «немой пророк», Соловьев – не реставратор, а революционер, «предтеча Новой Церкви», сокрушитель старых догматов и провозвестник ослепительной истины будущего. Усматривая за «иконописным лицом древнерусского или византийского святого» другой – тайный лик Соловьева, Мережковский-толковник фактически учит находить и в текстах смысл, противоположный явному. Это весьма важная черта его герменевтики.
Краткий очерк «Немой пророк» – пример того, как «субъективная» герменевтика Мережковского может оборачиваться проницательной философской антропологией. Еще выразительнее соловьевского глубинно-психологический портрет Гоголя в работе «Гоголь и черт» (1906). Мережковский-психоаналитик, кажется, смотрит глубже Фрейда, когда трагический надлом гоголевской судьбы связывает с двоящим личность христианина мощным «языческим» началом – «прямо жутким, «демоническим» сладострастием Гоголя»[95]. Отсутствие женщины в биографии и сочинениях писателя, его тяга к монашеству, приведшая к жизненному краху, проистекает из ужаса перед этим «черным пятном» в его натуре, – здесь же и источник его смеха, не менее странного, чем соловьевский. – Еще сильнее психологии Мережковского захватывает метафизика личностного бытия. Ему удается сложить воедино биографический и творческий лики Гоголя, создав образ тайнозрителя зла: Гоголь разоблачил черта как потустороннего вдохновителя человеческой пошлости, обыкновенности, середины. Мережковский отказывается романтизировать зло и считает образы Люцифера, Мефистофеля и пр. лишь «великолепными костюмами» и «масками» «обезьяны Бога». «Гоголь первый увидел черта без маски» – распознал в безликой жизненной стихии (Шестов называл ее всемством, Бердяев – миром объектов) и направил против него жало своей специфической сатиры: «Смех Гоголя – борьба человека с чертом»[96]. В собственно демонологию Гоголя Мережковский вкладывал скорее аллегорические смыслы. Так, малороссийскую повесть «Вий» критик считает пророчеством Гоголя о своей судьбе. Ведьма в гробу в древнем храме – «не языческая ли красота, не сладострастная ли плоть мира, убитая и отпеваемая Гоголем в старой церкви, в церкви Симеона Столпника или о. Матфея?» Вий же – это демон «мертвой плотскости», мстящей бурсаку-философу за «умерщвленную плоть», – это сам вызывавший у Гоголя смертный ужас «инстинкт слепой и ясновидящий». Философ Хома умирает от страха перед ним, – так, по Мережковскому, Гоголь предсказал собственную смерть. А старый храм, поруганный бесами, в его глазах – аллегорический образ исторической – монашеской Церкви, бессильной против современного зла: «Бесплотная духовность оскверняется бездушною плотскостью»[97]. Так «предмнение» нового религиозного сознания оказывается мощным инструментом при интерпретации целостного гоголевского феномена.
«Субъективность» (в смысле, предложенном Мережковским) была неотьемлемой чертой русской герменевтики – от ее «предтечи» Соловьева и вплоть до М. Бахтина. Последний, правда, формализовал герменевтику до «поэтики», а интерес к «живой душе писателя» (Мережковский) свел к теоретико-литературной проблеме «автора и героя». Первые разработки данной проблемы присутствуют и у Мережковского при осмыслении творчества Достоевского. Как соотносится собственная «идея» писателя с «идеями» героев его романов? Символист Мережковский полагал, что Достоевский вкладывал в художественные образы свой трагический душевный опыт, «истинное лицо свое прятал под масками всех своих раздвоенных героев»[98]. Вместе с ними он сходил в «преисподнюю» душевного раздвоения и в конце концов «спасся», вместе с Алёшей узрев «неимоверное видение» апокалипсической Каны Галилейской[99]. «В главных своих героях <…> Достоевский <…> изображал, обвинял и оправдывал себя самого»; он сам – «бесстрашный испытатель божеских и сатанинских глубин»[100]. Вопрос для Мережковского в одном – какой была собственная идея писателя, его вера, его приватная религия. Это был риторический вопрос: Мережковский не мог (или не хотел) распознать в романах Достоевского авторской позиции.
Мысль о тайне Достоевского прошла через всю русскую герменевтику. В трудах о Достоевском Мережковского, Бердяева, С. Булгакова, Л. Шестова ясной идеологии «Дневника писателя» отказано в праве считаться окончательной «идеей» писателя. Также и Бахтин не находил в его романах авторской точки зрения, с которой «завершаются» идеи героев. Достоевский себя «так хорошо прятал, что иногда и сам не мог найти лица своего под личиною [героя]: лицо и личина срастались»[101]. Потому в религиозной мысли Достоевского, полагает Мережковский, царит «страшная путаница», автор мечется между двумя «лже-Христами» «Легенды о Великом Инквизиторе»[102] и вообще… «что если и Достоевский просто «не верит в Бога»», как Великий Инквизитор[103]?! – Кажется, герменевтика Мережковского не справляется с действительным постижением «живой души» Достоевского. Он остается для критика мировоззренческим «оборотнем», ускользающим от внешнего взгляда в свой диалектический «лабиринт». У самого Мережковского не было настоящего христианского опыта, и потому он не допускал возможности сознательно-волевого выбора Достоевского – выхода из религиозных апорий, терзающих его персонажей, – да, его собственных сомнений, – в благодатную среду церковности, где они снимаются. «Дневник писателя» герменевтика Серебряного века не желала принимать в расчет.
Как видно, главный принцип русской герменевтики – ориентация интерпретатора на личность автора – далеко не всегда выдерживался до конца. Вернее сказать, в «живой душе» писателя Мережковский ценил преимущественно «бессознательную глубину творческого вдохновения», продуцирующую художественные смыслы как бы «помимо воли, помимо сознания» гения-творца[104]. Не роднит ли это Мережковского с Хайдеггером, представлявшим творческий акт как манифестацию «истины бытия»? У обоих мыслителей художник оказывается медиумом бытийственного откровения, и в случае Мережковского – пророком нового христианства. Когда русский критик усматривает в текстах смыслы и даже идеологемы, противоположные тем, которые прямо декларируются писателем, то налицо один из способов «изгнания» автора из герменевтического события. Мережковский не уважал авторского идейного выбора. Так, ему претило специфическое христианство Толстого: оно олицетворялось критиком в образе морализатора старца Акима («Власть тьмы») – архетипического «упыря», питающегося внутри души писателя жизненными соками также архетипического «Брошки» («Казаки»), стихийного язычника, выразителя – по Мережковскому-действительной толстовской натуры. Объявляя Достоевского «первым пророком Св. Духа, Св. Плоти»[105], он отрицает выстраданное православие писателя, которого считает адептом религии «древней Матери-Земли», «Елевсинских таинств», а вместе и ницшевского «Диониса Распятого»[106],[107]. Отсекая от «Преступления и наказания» эпилог с обращением Раскольникова, с неменьшим дерзновением Мережковский-экзегет хочет оборвать евангельский рассказ о Христовом Воскресении на картине пустого гроба («Иисус Неизвестный»)… В своем «чтении наоборот» и «исправлении» текстов Мережковский вовсю пользуется герменевтической свободой, характерной именно для западного подхода, акцентирующего «предмнение» и продуктивность «исторической дистанции».
69
Гадамер Х.Г. Актуальность прекрасного, с. 109.
70
Хайдеггер М. Исток художественного творения // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв. Трактаты, статьи, эссе. М., 1987, с. 289.
71
Гадамер Х.Г Актуальность прекрасного, с. 261.
72
Там же, с. 263.
73
Там же, с. 111.
74
Хайдеггер М. Из диалога о языке… С. 278.
75
Там же.
76
Гадамер Х.Г Актуальность прекрасного, с. 111.
77
Бультман Р. Новый Завет и мифология. Проблемы демифологизации новозаветного провозвестия // Вопросы философии, 1992, № 11, с. 112.
78
Там же.
79
Гадамер Х.Г. Актуальность прекрасного, с. 81.
80
Там же, с. 110.
81
Хайдеггер М. Исток художественного творения, с. 312.
82
Лёзов С.В. Теология Рудольфа Бультмана // Вопросы философии, 1992, № 11, с. 75.
83
Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному. М., 1997, с. 347.
84
Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному. М., 1997, с. 350.
85
^Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. М., 1991, с. 157.
86
Судзуки Дайсецу. Введение в дзэн-буддизм // Сайт www.webbl.ru – бесплатная электронная библиотека, б. г, с. 155, 153.
87
^Гадамер Х.Г. Актуальность прекрасного, с. 126–127.
88
Даже Гадамер признавался, что и его порой вводила в недоумение прихотливая парадоксальность хайдеггеровской мысли. Во «Введении к работе Мартина Хайдеггера «Исток художественного творения»» (1967), обсуждая то представление учителя, в котором «несокрытость» сущего уже предполагает наличие в нем «раскрытое™» (равно как верно и обратное), Гадамер восклицает: «Несомненно, замысловатое отношение». Пристрастие Хайдеггера к подобным как бы тавтологиям также роднит его с мыслью Востока. «И еще более замысловато, – продолжает Гадамер, – то, что именно в этом “здесь”, где показывается сущее, выступает и сокрытость бытия» (см.: Гадамер Х.Г. Актуальность прекрасного, с. 112–113). Если здесь и диалектика, то не гегелевского – рассудочного типа, а присущая описаниям опыта приобщения к «разуму Будды». Для «непросветленного» – того, кто не имеет подобного опыта, «дзэн до смешного неуловим» (Судзуки Д. Указ, изд, с. 5). У Хайдеггера, как можно предположить, был все же особый – опять-таки квазимистический опыт глубинной рефлексии процесса философствования.
89
Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному, с. 335.
90
9QМережковский Д.С. Вечные спутники (авторское вступление). – В изд.: Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский… С. 353.
91
Там же.
92
Андрей Белый. Мережковский. Силуэт, с. 10.
93
См. в изд.: Мережковский Д.С. В тихом омуте… С. 126.
94
Там же, с. 120.
95
См. в изд.: Мережковский Д.С. В тихом омуте… С. 251.
96
Там же, с. 213, 214.
97
Там же, с. 302–303.
98
Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский, с. 304.
99
Там же, с. 288.
100
Там же, с. 217.
101
Там же, с. 304.
102
Здесь можно заметить, что к субъектной структуре текста «субъективный критик» Мережковский не проявлял особого внимания (в отличие, конечно, от Бахтина): ведь «авторство» «Легенды…» Достоевский отдал Ивану.
103
Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский, с. 299, 304.
104
Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский, с. 395, 393.
105
Мережковский Д.С. Пророк русской революции. – В изд.: Мережковский Д.С. В тихом омуте… С. 347.
106
Там же, с. 346.
107
Более того, Мережковский утверждает, что Достоевский «высказывает <…> свои собственные, самые заветные святые мысли» «устами Черта» Ивана Карамазова (Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский, с. 131).