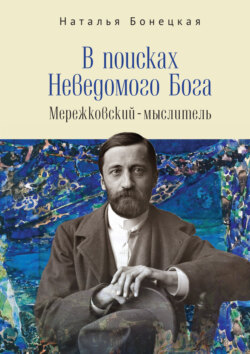Читать книгу В поисках Неведомого Бога. Мережковский–мыслитель - Н. К. Бонецкая - Страница 7
Д. С. Мережковский: Герменевтика и экзегетика[1]
Герменевтика и мифотворчество
Оглавление«Герменевтика» – слово высокое, предполагающее некую тайну, – и не только потому, что ее формирование было связано с истолкованием Священного Писания. Изначально в герменевтике присутствует некий мифотворческий элемент, на который указал Хайдеггер, этимологически возведший название истолковательной дисциплины к «имени бога Гермеса»[108]. Гермес – «вестник богов», который «приносит весть судьбы», что и есть «истолкование». Но это, так сказать, истолкование второго порядка, ибо прислушивается к сказанному поэтами, которые в свою очередь также «суть вестники богов»[109]. – В этих суждениях Хайдеггера – ориентация не столько на керигму Бультмана, сколько на слова Сократа в платоновском «Ионе». Учитывая, что для Хайдеггера-человека были значимы как «Бог», так и «боги»[110], можно допустить, что потусторонние реальности вовлекаются им в академический дискурс не только ради красного словца. Секуляризируя их в «метафизике откровения», Хайдеггер все же сохраняет за своей теорией искусства оттенок мистицизма.
Но западное – в основном декларативное герменевтическое мифотворчество кажется весьма робким на фоне мифотворческого разгула в герменевтике русской. Здесь оно нередко имеет вполне конкретный характер – «мифы» о писателях порой остроумны и точны. О том, что писатели, близкие Мережковскому сосуществованием в них христианского и языческого начал, всерьез именуются критиком пророками, тайновидцами, посвященными, просветленными и т. д., мы уже замечали, обсуждая почти священный – в его глазах – характер их текстов. Герменевтика Мережковского – это герменевтика великой личности, сложившаяся под влиянием как идей Ницше, так и «культа героев» Т. Карлейля[111]. Однако личности, люди ли вообще – «вечные спутники» Мережковского? Кажется, в своем романтико-ницшеанском стремлении «за ненавистные пределы человеческой природы»[112] мыслитель вплотную подходит к античному реализму, когда играет представлением о поэтах как то ли «богах», то ли «вестниках богов»[113]. С неслучайным упорством он ищет нечеловеческие черты в обликах писателей. Так, концептуальным центром исследования «Гоголь и черт» является тезис Мережковского о таинственном симбиозе Гоголя с неким запредельным существом. Обосновывая его, критик опирается на свидетельства гоголевских современников: Достоевский называл Гоголя «демоном смеха»; приятели вспоминали свое «тревожное, почти жуткое и в то же время смешное, комическое» впечатление от его наружности – ««птица», «карла», «демон», карикатура, призрак, что-то фантастическое, только не человек или, по крайней мере, не совсем человек»[114]. Вся ткань рассуждений Мережковского о Достоевском пронизана намеками на инфернальность натуры «тайновидца духа» – страдающего «священной болезнью» «бесноватого»; его «истинная сущность», более того – «страшная и опять-таки нечеловеческая»[115]. В случае Толстого даже и «сквозь ледяные пуританские речи о курении табаку, о братстве народов <…>» критик слышит «голос слепого титана, неукротимого хаоса – языческой любви к телесной жизни и наслаждениям, языческого страха телесной боли и смерти»[116]. – Яркий образец герменевтики Мережковского – очерк «Гёте» из сборника «Вечные спутники»: более или менее традиционное понимание критиком феномена «великого олимпийца» в пределе мифологично. В старости Гёте явил свой ноуменальный лик, утверждает Мережковский, ссылаясь на Эккермана и прочих веймарских собеседников писателя: «В этих нестареющих глазах что-то «демоническое»», что «для язычников значит божеское (от древнегреческого слова daimon – бог), а для христиан – бесовское». «Образ Гёте-олимпийца» «богоподобен», и то слово, которым Мережковский обозначает это, – «сверхчеловек» Ницше: «Да, сверхчеловеческое – в этой вечной юности». Специфика гётевского сверхчеловечества – в «плотской, кровной, физической» связи с «природой – с Душою Мира». Именно из этого «первоисточника» он черпает «вечную юность» (впрочем, Мережковский допускает, что, как и Фауст, Гёте «заключил договор с «некоторым лицом»»…) И эти представления – мифологические? антропологические? герменевтические? – служат русскому мыслителю для внесения еще одной черты в его концепцию Третьего Завета: «Религия Духа будет утешительной. Кажется, Гёте это предчувствовал больше, чем кто-либо»[117]. Из герменевтического круга интерпретатор выходит все же не с пустыми руками.
Все сказанное выше о новом религиозном сознании свидетельствует об огромной роли Ницше в его формировании. Связать герменевтику Мережковского с его ницшеанством мы намереваемся в дальнейших исследованиях. Естественным переходом к ним станет обсуждение здесь мифа о Лермонтове, созданного русской герменевтикой. Этим мы и завершим наш первый подступ к ней.
В 1897 г. Вл. Соловьев написал небольшой очерк «Лермонтов». Как раз в тот момент он, автор «Чтений о Богочеловечестве» и «Смысла любви», заинтересовался ницшевской идеей сверхчеловека. Взяв на вооружение этот концепт, основоположник софиологии вложил в него свой собственный смысл: «сверхчеловек» призван победить смерть на пути высокой эротической любви, которую мыслитель считал чудодейственной – жизнеподательной силой[118]. Данным «сверхчеловеческим» масштабом Соловьев оценивает лермонтовский феномен, – речь здесь идет не столько о герменевтике, сколько о критике и суде над Лермонтовым.
Считая Лермонтова «прямым родоначальником» русского ницшеанства – ложного, на взгляд Соловьева, понимания «сверхчеловечества», – мыслитель построил свое эссе как развернутое, моральное по сути, обличение лермонтовского эгоизма – «сверхчеловеческого» самоутверждения. «Лермонтов, несомненно, был гений, т. е. человек, уже от рождения близкий к сверхчеловеку, получивший задатки для великого дела, способный, а следовательно, обязанный его исполнить»[119]: «великое дело» – это «общее дело» Н. Федорова, т. е. имманентно достигнутая победа над смертью. К ней «есть сверхчеловеческий путь» – путь любви, противоположный эгоистическому. Между тем Лермонтов, как раз вместо того чтобы бороться с эгоизмом, идеализировал и оправдывал своего внутреннего «демона гордости». Демон его поэмы «не только прекрасен, он до чрезвычайности благороден и, в сущности, вовсе не зол»[120]. Как видно, в этой соловьевской концепции есть семя мифологии – почти реалистическое ведение лермонтовского «демона» (Соловьев нередко заявлял о своей вере в разного рода «чертей»). «Демонизм» Лермонтова (а в это слово Соловьев вкладывал не сократовский, а христианский смысл) не дал поэту стать «могучим вождем на пути к сверхчеловечеству»[121] и привел его к гибели.
Такое причудливое смешение христианских и языческих мотивов не могло не затронуть самых сокровенных душевных струн Мережковского. В 1908 г. он ответил на соловьевскую статью полемическим трактатом «М.Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества». Восстав против осуждения поэта Соловьёвым, Мережковский не только принял, но развил и довёл до апофеоза мысль о Лермонтове как предтече Ницше. Лермонтовская «тяжба с Богом» для Мережковского – это «святое богоборчество» Иова и Иакова[122]; так же свята эгоистическая, по слову Соловьева, лермонтовская этика. Для Лермонтова, утверждает Мережковский, «предельной святостью» обладает не христианское «бесстрастие», а «нездешняя страсть»; поэт «предчувствует какую-то высшую святыню плоти» и «правды земной», – такова, по Мережковскому, лермонтовская переоценка верховных ценностей. И если для Соловьева значимо то, что Лермонтов-ребенок обрывал крылья мухам и подшибал куриц, то Мережковский, блестяще подбирая лермонтовские цитаты, доказывает, что Лермонтов был «влюблен в природу»[123]. Неузнанный Соловьевым его брат по духу, Лермонтов, почитатель Матери Божией, воспевал Вечную Женственность, уже сошедшую на землю (в отличие от соловьевской Софии)… Апология Лермонтова незаметно превращается у Мережковского в манифест нового религиозного сознания, предтечей которого объявлен мятежный поэт: «Христианство отделило прошлую вечность Отца от будущей вечности Сына, правду земную от правды небесной. Не соединит ли их то, что за христианством, откровение Духа – Вечной Женственности, Вечного Материнства? Отца и Сына не примирит ли Мать?»[124].
Таков религиозно-нравственный аспект реплики Мережковского в адрес Соловьева. Нам сейчас особенно интересно то, что под идеологию Мережковским подведен мифологический фундамент. Согласно Соловьеву, Лермонтов-«сверхчеловек» не состоялся; по Мережковскому, он, более того, был сверхъестественным существом в самом буквальном смысле. Мережковский вспоминает древнюю гностическую легенду об ангелах, не осуществивших в вечности выбора между добром и злом: они должны сделать это во времени – пройдя земной путь в качестве людей. Большинство из нас забывает свое существование до рождения, но есть и исключения: «Одна из таких душ – Лермонтов»[125]. Опять-таки, подобно Гоголю, Лермонтов «в человеческом облике не совсем человек, – существо иного порядка, иного измерения»[126], что подмечали его современники. И демон, который в концепции Соловьева завладел поэтом, у Мережковского фактически отождествляется с его душой, хранящей память о довременном существовании. Так Мережковский конкретизирует «сверхчеловечество» Лермонтова: оно обусловлено особенностью его демона, который – не дьявол и не ангел, «ни мрак, ни свет». Основное настроение поэзии Лермонтова – томление по небесной родине, – лермонтовский феномен адекватно описывается лишь в категориях этики Ницше: «Самое тяжёлое, “роковое” в судьбе Лермонтова – не окончательное торжество зла над добром, как думает Вл. Соловьев, а бесконечное раздвоение, колебание воли, смешение добра и зла, света и тьмы»[127]. То ли еретический – в духе Оригена, то ли сказочно-романтический, этот миф, надо сказать, замечательно иллюстрирует лермонтовские биографию и творчество. Оценивать миф художника о художнике тем не менее хочется по критерию, принятому в естественных науках, – как гипотезу, объясняющую факты, удовлетворяя тем самым своему назначению.
* * *
При сравнении статей о Лермонтове Соловьева и Мережковского обозначается зыбкая грань между литературной критикой и герменевтикой. Критический дискурс строится вокруг оценки, герменевтический направлен на открытие. В обоих велика роль предмнения, но в первом случае оно властвует над вестью, во втором – хочет, хотя бы в видимости, служить ей. И шансы интерпретатора на успех велики, по-видимому, в двух случаях. Неслучайно Мережковского в мировой культуре интересовали лишь его «спутники»: общность цели – духовное родство – то ли упраздняет пресловутую историческую и межличностную дистанцию, то ли, в самом деле, сообщает ей продуктивность. А во-вторых, всегда открыт для нового прочтения текст священный. В этом слове нам сейчас важен не столько собственно религиозный оттенок, сколько указание на всечеловеческое содержание, готовое к откровенному диалогу с каждым.
108
Хайдеггер М. Из диалога о языке… С. 288.
109
Там же.
110
Ср. Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному, с. 351.
111
Карлейль, вместе с другими «мистиками» XIX в., согласно Мережковскому, «подымает знамя новой религии», что обосновано в ранней статье русского критика «Мистическое движение нашего века» (1893).
112
Мережковский Д.С. Пушкин. – В изд.: Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский… С. 351.
113
«Боги», конечно, у Мережковского это не олимпийцы, а некие характерные демоны (в платоновском смысле слова).
114
Мережковский Д.С. Гоголь и чёрт, с. 254–255.
115
Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский, с. 51, 131.
116
Там же, с. 519–520.
117
См.: Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский… С. 409–410, 414.
118
Об этих интимно-личностных идеях позднего Соловьёва см. в главе «Андрогин против сверхчеловека» данной книги.
119
Соловьёв В. С. Лермонтов. – В изд.: Соловьёв В. С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991, с. 383.
120
Там же, с. 396.
121
Там же, с. 391.
122
См. в изд.: Мережковский Д.С. В тихом омуте… С. 398.
123
См. в изд.: Мережковский Д.С. В тихом омуте… С. 404–405, 408.
124
Там же, с. 413.
125
Там же, с. 388.
126
Там же, с. 392.
127
Там же, с. 395.