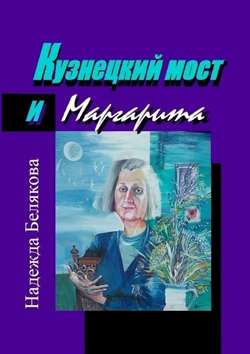Читать книгу Кузнецкий мост и Маргарита - Надежда Белякова - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 глава. Начало
ОглавлениеВ зале московского Исторического музея, посвященном первобытнообщинному строю, Капитолина, взвыв от боли, сорвала со своей белокурой, коротко остриженной головы белый берет, связанный мелкими узорами. И, побледнев, ужаснулась, что при всем седьмом и восьмом классах Кимрской школы – на глазах испуганных мальчишек и девчонок – у нее, учительницы, стали отходить воды. Здесь, в этом торжественном зале, украшенном росписями самого Васнецова, с которых на все происходящее в тот день смотрели разъярённые неандертальцы в мехах, замершие в изумлении в момент охоты на мамонта. И первые задумчивые язычники тоже застыли на месте, как и ученики, до того рассматривавшие их ожерелья и копья. Древние экспонаты, манекены в шкурах, изображавшие первобытнообщинных людей, – все поплыло перед глазами Капитолины одним пестрым потоком, в котором она тонула, как в речном водовороте, теряя сознание от боли, под доносящийся с Красной площади через распахнутые окна музея бодрый запев и звуки духового оркестра:
– …от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней!
Так школьники, которых привез на экскурсию в Исторический музей ее муж, Андрей Беляков, получили наглядный урок, что такое роды и как они начинаются. Экскурсия по истории обернулась в наглядную экскурсию по биологии. Конечно, это вызвало большой переполох в Историческом музее в то утро 25 июня 1933 года.
А утро было таким же солнечным, как и весь тот июнь – первый месяц начала школьных каникул. Но в семье молодого директора школы города Кимры, Андрея Белякова, это утро началось со спора с женой Капитолиной том, можно ли и ей тоже поехать в этот воскресный день на экскурсию в Москву. Он старательно готовился к этой экскурсии для учеников их школы, в которой он был директором, а его жена – Капитолина Карповна —учительницей младших классов. Спорили, потому что Капитолина Карповна находилась на седьмом месяце беременности, а ехать в Москву на электричке долго, да и тряска, и грохот вагона, словом – поводов отказаться от участия в этой экскурсии, главным в которой было посещение Исторического музея, было предостаточно. В том, что ехать Капитолине не нужно и опасно трястись в поезде довольно долго, поддержала и теща Андрея Осиповича, Елизавета Яковлевна. Но беременная Капа очень хотела в этот раз обязательно поехать в Москву. И потому уверяла, что прекрасно себя чувствует, а потом – и в ближайшие месяцы, и уж тем более после родов – не скоро у нее появится возможность побродить по Москве. Упорство ее в то утро было столь несгибаемым, что и муж, и ее мама, Елизавета Яковлевна, сдались.
И действительно, поездка прошла легко и даже весело, потому что ее муж, несмотря на грохот электрички, устроил своим школьникам лекцию об Историческом музее в Москве, подготавливая учеников к встрече с музеем. И Капитолина Карповна любовалась и гордилась своим замечательным мужем, работавшим в то время директором школы. Она мечтала о том, что привезет домой в Кимры новые пластинки, которые будет крутить на патефоне во время вечеринок, на которые собирались и учителя их школы, и вся кимрская интеллигенция – отплясывать фокстроты, слушать Утесова и закусывать обильными и невероятно вкусными пирогами ее мамы, Елизаветы Яковлевны. А уж какие она была мастерица делать наливки! И водочка из граненных графинов тоже пользовалась заслуженным вниманием под закуски, художественно сервированные Елизаветой Яковлевной. Тех же самых графинов, которые ставились с водой на трибуну в актовом зале школы в торжественные дни, когда Андрей Осипович Беляков – директор этой школы, проживавший со всем семейством в двух классах, именовавшихся «директорской квартирой», – выступал с речью утром 1 сентября или по поводу выпускного бала, Первомая, Нового года и 7 Ноября, и по поводу окончания учебного года – тоже собирались и отмечали.
Так мечталось жене директора школы – учительнице младших классов – о поездке в Москву еще и потому, что хотела купить там модные фикусы и пальмы в любимом цветочном магазинчике на улице Горького – для школы, подоконники которой она обожала украшать цветами – разноцветными фиалками и геранями, благодарившими ее за уход за ними пышным цветением. Поэтому и спорила с семейством, уверяя, что чувствует себя очень хорошо и может поехать в Москву вместе с экскурсией, организованной ее мужем для учеников их школы.
Переполох в Историческом музее завершился с появлением в зале санитаров в белых халатах с увесистыми носилками. И Капитолину Карповну быстро доставили в изысканно красивое здание в стиле модерн. В роддом на Миусской площади, где она благополучно родила семимесячную девочку.
Так жарким днем 25 июня 1933 года родилась моя мама. Имя Маргарита было неожиданно подарено ей ее старшей сестрой, названой в честь матери Капитолиной. Она, двенадцатилетней девочкой, как раз на днях стянула из библиотеки отца «Королеву Марго». И читала уже неделю эту книгу одновременно с заданным для обязательного прочтения во время каникул «Дубровским». Поэтому, когда к ней обратился с вопросом отец, как бы она хотела назвать сестренку, ожидая услышать «Маша», директор школы был озадачен тем, что его старшая дочь, не задумываясь, тотчас ответила:
– Конечно, Маргарита!!!
Это удивило его, потому что он-то ожидал услышать – Маша, как звали героиню «Дубровского». На что он и рассчитывал. Но имя Маргарита ему понравилось, да и само рождение – почти в Историческом музее – вполне гармонировало с тем, что прелестное синеглазое дитя будет носить такое торжественное имя. Так появилась на свет божий Маргарита Андреевна Белякова – замечательный художник-модельер ОДМО «Кузнецкий Мост», моя мама.
Ушло в прошлое то замедленное, завораживающее колыхание пышных юбок пятидесятых годов – с пышными многослойными нижними юбками из накрахмаленной марли – и то будоражащее воображение их маняще-танцевальное движение, словно подхваченное порывами ветра вокруг стройных бедер манекенщиц на подиуме зеленого зала в Доме моделей «Кузнецкий Мост». Новые ритмы, формы, образ и стиль вторглись и сменили в том сезоне начала шестидесятых буквально все и само мироощущение работавших над новыми коллекциями моды художников-модельеров, представляющих миру обновленное лицо наступившей хрущевской оттепели – времени больших перемен и обновления.
По подиуму или, как говорили работавшие в ОДМО «Кузнецкий Мост», – «по языку» зеленого зала проходили манекенщицы, демонстрирующие модели моды 1962 года, вернее – не просто показывая новые модели будущей коллекции, которой предстояло объездить с гастролями весь мир современной моды, – манекенщицы, как актрисы обыгрывали этот новаторский, еще не обжитый, чистый от навязанных стереотипов новый образ современницы: труженицы-ударницы производства. В сущности, впервые создавая этот образ своим обликом, пластикой, внутренним ощущением обновления бытия, обыгрывая заложенные темы стиля в моделях одежды, которую они показывали на этом пока еще закрытом рабочем показе.
И Маргарита, любившая этот создаваемый художниками и манекенщицами на подиуме «ветер перемен», работала как обычно за кулисами подиума, помогала манекенщицам менять созданные ею головные уборы в соответствии с моделями одежды. Напряженно всматриваясь в зал из-за кулис, чтобы увидеть, как принимают ее новую модель головного убора, считывая по выражениям лиц и одобрение, и удивление.
Уже овладевшая опытом и мастерством художника-модельера Маргарита и другие модельеры в этом броуновском движении закулисья давно научились двигаться, не сталкиваясь ни с другими художниками-модельерами, ни с манекенщицами, на доли секунды возвращавшимися после показа новой модели, чтобы переодеться и вновь уплыть на подиум в другой одежде и в новом облике. Отточенностью этого взаимного «обтекания», как называли художники-модельеры свою работу за кулисами – Марлезонского балета, со временем и Маргарита овладела безупречно. И одновременно с Ниной Заморской и Верой Гринберг (Савиной) – каждая надевала на манекенщиц свои модели. Перед каждым выходом манекенщицы на публику Маргарита успевала показать на себе, как «нести» шляпу, создавая задуманный ею образ, мгновенно поправляя, чтобы лучше сидело, объясняя суть созданного ею образа, но все это быстро и шепотом. Все происходило на такой сверхскорости, что возникало ощущение абсолютно спрессованного времени, словно они все оказывались в запредельном пространстве.
То, что у Маргариты были хорошие, приятельские отношения с манекенщицами, красавицами того времени, помогало им с полуслова, взгляда и жеста понимать тему, воплощенную в новой модели, и обыгрывать именно тот образ, который и был задуман художником-модельером, как верхней одежды, так и головного убора. Поражало и то, что они умудрялись успевать и шутить, перебрасываясь новостями и мнениями, обмениваясь на бегу книгами.
– Спасибо! Ритуль! А то мне такого же Хемингуэя, только на три дня давали. Не все успела прочитать. А я тебе Ремарка захватила, как обещала! – успевала прощебетать манекенщица, пока Маргарита распаковывала и надевала на нее свою новую модель шляпы, отвечая ей:
– Если «Три товарища» – то я уже читала, до утра оторваться не могла. А моего Хемингуэя спокойно читай сколько нужно. Мы с мужем уже прочитали.
Одна за другой сменяли друг друга манекенщицы на подиуме. На головах манекенщиц головные уборы возникали как разные образы-роли или женские судьбы, которые нужно успеть сыграть за промежуток времени прохода по языку.
Направления и тенденции моды, как обычно на просмотрах, и в том числе и рабочих просмотрах, комментировала искусствовед Дома моделей. Но во время рабочих просмотров, на которых решалась судьба будущей коллекции, созданной в новом сезоне художниками-модельерами ОДМО, это не лекция, а живой творческий, рабочий диалог, потому что время от времени в выступление, комментарии искусствоведа вмешивались и мнения или пояснения товарищей из ЦК, в обязанности которых входило решать судьбу представленной им новой коллекции художественного руководителя Натальи Головиной.
– Прошу обратить внимание на интересные новые модели, представленные для этой осенней коллекции Маргаритой Беляковой. Она у нас молодой специалист, но с самого начала проявила качества яркого, смелого модельера, со своим почерком и внутренней темой. Поскольку наши коллекции должны быть не только внедрены в отечественное производство, но и представлять нашу современную моду в контексте развития искусства моды во всем мире, все мы относимся к этому просмотру особенно ответственно! Наша коллекция будет показана на тех же подиумах, где будут блистать и модели прет-а-порте ведущих домов моды всего мира. Так что мы должны стараться представить нашу страну на самом высоком уровне! Поэтому меня порадовала эта серия моделей Беляковой Маргариты. Есть европейский уровень в подаче формы, в создании романтического образа, присутствуют изящество линии и чувственность объема. Прекрасно! Особенно вот эта вещь! – произнесла художественный руководитель, жестом останавливая манекенщицу в шляпе с большими полями – последней моделью Маргариты в этом сезоне.
И манекенщица, не выходя из образа, подыграла ситуации, медленно, словно оглядываясь в поисках чего-то далекого и загадочного, несколько раз повернулась, на мгновение замирая в красивых позах, словно живая статуэтка, устремляя задумчивый взгляд куда-то вдаль, поверх голов зрителя, показывая всю красоту головного убора со всех сторон. А художественный руководитель продолжила комментировать новую коллекцию ОДМО «Кузнецкий Мост»:
– Широкие поля, элегантная тулья, но одновременно нечто самобытное, неповторимое – такое наше, но не только фольклорное, а современное прочтение нашего культурного наследия. Вот, вот! Остановитесь, пожалуйста, – обратилась она к другой манекенщице, комментируя свое впечатление:
– Эта – шляпка Маргариты Беляковой в стиле коктейль, из цикла «Купола» отвечает теме модерна в отечественном искусстве, его декоративности и почти декларационной адресности ко всему русскому в изобразительном искусстве. Отлично, Маргарита!
В этот момент на подиум вышли еще две манекенщицы в меховых пальто и горжетках по моде того времени. Они демонстрировали новую меховую серию. И художественный руководитель ОДМО продолжила:
– А вот и меховая серия. О! Новая тема, и как исторично и – одновременно – современно! Рита! Великолепно! смелые формы! Как это называется этот головной убор?
Маргарита вышла из-за кулис и пояснила идею своих новых моделей:
– Когда я делала их, про себя называла их «боярки». Здесь можно обыграть стиль а-ля рус – головки шляп делать тканевые, парчовые, меховые. Из этого можно вывести разные варианты.
Манекенщицы в ее «боярках» демонстрировали новые модели – пальто и шляпы. На их прелестных головках первых красавиц в СССР красовались «боярки» Маргариты. И вдруг они позволили себе вольность: как по команде повернулись в ее сторону и зааплодировали покрасневшей от смущения Маргарите. Сидящие в зале сотрудники выдержали паузу. Переглянулись между собой и… и тоже, коротко, но все же поаплодировали, решив, что просмотр все же рабочий, без высшего руководства, и потому можно допустить такую вольность и поощрить молодую художницу.
Этот звук неожиданно для Маргариты встревожил ее, оставив привкус горечи смутных воспоминаний. Но ей не пришлось долго вспоминать, отчего возникла эта щемящая тоска с привкусом тревоги, – в ее воспоминаниях тотчас возник звук трясущихся по шпалам теплушек поезда, везущего в эвакуацию людей, спасавшихся от войны.
Маргарита собралась и нашла в себе силы поклониться и улыбнуться в ответ и манекенщицам, и залу. И вернулась в свое рабочее закулисье, продолжая работать. Но воспоминания о том военном времени нахлынули и еще долго не отпускали ее.
Все затуманилось в ее глазах. Только звук трясущейся по рельсам, ползущей в эвакуацию теплушки окутал ее. Рита продолжала работать, но и даже после рабочего дня те воспоминания не отпускали ее.
Сорок второй год. Зима. Бескрайняя белизна, по которой прочерчена черта, направленная в сторону надежды на спасение жизни людей, которых бедствия войны загнали в эти теплушки. Это шпалы и поезд, везущий зимой 1942 года людей в эвакуацию. Теплушки были плотно набиты бегущими от ужаса войны людьми, семьями едущими в эвакуацию. В той теплушке, в которой ехала семья Маргариты, было много разных людей, но самыми близкими их соседями были мать и мальчик, которого все нежно звали просто Зайчик, потому что так звала его мать.
Елизавета Яковлевна и ее дочь Капитолина Карповна с двумя дочерями: Ритуськой и старшей 15-ти летней Капой, поздней осенью отправились из Кимр в эвакуацию. Промерзшую теплушку трясло по обледенелым и заснеженным рельсам. Капитолина Карповна спала, а Елизавета Яковлевна вязала носки, чтобы было что обменивать по пути на хлеб, и вспоминала:
– Первым художником в нашем роду был мой отец – Яков Бегутов. Сын крепостной девушки – плод любви приехавшего погостить на лето к сестрицам в поместье братца. Лихого офицера, теперь уж и не припомнить точно; не то – красавца гусара, не то – заядлого дуэлянта драгуна. Поэтому две барыньки-сестрицы, так и оставшиеся в старых девах, дитя любви милого братца воспитывали в барском доме под присмотром нанятых для него гувернеров и учителей, как племянника-барчука, которому в то же время не упускали случая время от времени напоминать, что он – крепостной мальчуган, обласканный судьбой и милостью его благодетельниц— барыньками-сестрицами из их любви к братцу.
Способности к рисованию проявил Яков Бегутов еще в раннем возрасте. И заниматься живописью начал еще в усадьбе под Васильсурском под присмотром другого крепостного художника, обучившего его своим навыкам и нажитому мастерству иконописи. И сметливые тетушки-барыньки усмотрели в том особый промысел судьбы: и ему работа на оброке – свободное предпринимательство, мастерская иконописца, и им – надежный оброк. Как-никак, а прежде всего он их крепостной. Хоть и на особом положении, благодаря шалостям их любимого братца. Несмотря на положение крепостного, Яков отличался довольно бурным и независимым нравом.
Бог весть за что, но видно было – за что, но решили барыньки укротить и строго Якова Бегутова наказать. И именно женитьбу они посчитали самым надежным способом наказания для молодого художника. Как раз в этот момент случилась беда с их горничной, среди обязанностей которой было подавать барыням утренний чай. А чай в те времена был дорогим и особенным, лишь господам доступным напитком. Горничная, смолоду и всю жизнь прислужившая в их покоях, пользовалась их доверием. Да вот попутал же ее бес! Уж очень захотелось ей угостить дочку Дуняшу этим экзотическим напитком-лакомством – чаем. Улучив момент, когда, как ей казалось, никто ничего не видит, она и позволила себе недопустимую вольность. Она попотчевала дочку Дуняшу оставшимся в чайничке для заварки утренним чаем, налив его в красивую изящную барскую чашечку. А тут вдруг на беду и вошла барыня. Дуняша завела руку за спину и поклонилась ей.
«Это, что у тебя там за спиной, Дуня?» – спросила барыня, углядев свою фарфоровую чашку, промелькнувшую и скрывшуюся за сарафаном Дуси.
Наказание было неотвратимо. Выпороли Дуняшу. Да мало того, еще мигом и замуж выдали строптивицу за буяна-художника, в наказание. Поскольку отправить его на оброк в Васильсурск было у барынь уже делом решенным, а отпускать холостого показалось им делом ненадежным. Вот так и получилась семья у Якова Бегутова.
– Надо сказать, что семья сложилась хорошая, – вздохнув о былом, вспоминала Елизавета Яковлевна: – Ох, как люто папенька за рисунком глядел. Привык папенька мой к тем навыкам, на которых сам вырос и стал художником. Умудрялся пороть на конюшне даже женатых сыновей, за страшные с его точки зрения прегрешения: ошибки и леность в рисовании. Или когда без восторга писали, без должного прилежания, а особенно ошибки в анатомии крыльев ангелов и святых его раздражали. Работал он, не щадя своих сил, и сыновьям поблажки не давал. Открытая Яковом Бегутовым иконописная мастерская, в которой создавали иконы на продажу, работала очень напряженно. Но основным заработком были работы над росписями новых храмов. Деньги были ему нужны для того, чтобы выкупиться на свободу из крепостного права. Получить вольную.
Положение раба всю жизнь тяготило и унижало его. Но Дуняша исправно рожала новую душу крепостною, конечно. И выплата барынькам-тетушкам выкупа всей семьи из крепостного права откладывалась. Всего в браке их родилось 13 детей, правда я и братец мой Мишенька – мы, младшие, родились уже после того, как семья выкупилась из «крепости». А до того – шли годы, а выкуп большой семьи задержался на годы. И все же он собрал нужную сумму. Яков Бегутов выкупил всю семью из крепостного права! А вскоре пришел февраль 1861 года, девятнадцатое.
Поэтому объявление отмены крепостного права оказалась для него вовсе не радостной вестью, а сердечной досадой, что напрасно выкупался у тетушек-барынь. Это подкосило его здоровье, и без того подорванное наступавшей его слепотой. Но он гордился созданной им иконописной артелью. И иконы наши тогда хорошо покупали. Нужны были людям иконы. И росписью храмов всей артелью зарабатывали. Сколько храмов на берегах Волги украшали росписи нашей семьи!
Все тринадцать душ – дети Якова Бегутова – независимо от пола, работали единой артелью – расписывали храмы и писали иконы. Правда, мы, дочери, приличия ради, большей частью расписывали иконы дома. Не лазить же нам в юбках по деревянным сколоченным лесам, расписывая стены церкви, ведь тогда мужского ничего женщины на себя не надевали. Работали мы вдоль по Волге! И всей семьей поднимались и ехали, если отец наш получал заказ на роспись церкви. Правда переезжать часто приходилось, потому и жили мы, снимая жилье на всю семью. Ведь отец наш Яков Бегутов, как только выгодный заказ найдет с росписью или обновлением храма, как услышит, что новый храм строят, так сразу же сначала сам туда съездит, чтобы все разузнать. И если получит он заказ на роспись храма, так уж и мы всем семейством поднимаемся с насиженного места. Так мы всю Россию объездили. Ну, точно кочевали мы. Но жили мы хорошо. И в праздник – у нас стол праздничный, и праздник добрый, веселый – все по-людски было. И в будни все сыты были, и босыми никто из нас не ходил.
Тут проснулась и ее дочь Капитолина Карповна. Она была тяжело больна. Эвакуация сильно подорвала ее здоровье – сутки напролет в грохоте и холоде теплушки – теперь уж не ехали, а проживали, двигаясь в неизвестность в жестоком холоде и голоде, – по пути в эвакуацию. Сестры Капа и Рита что-то рисовали, слушая бабушкины воспоминания. Отложив вязание, Елизавета Яковлевна стала править их рисунки, отметив про себя, что, когда младшая Ритуська подрастет, нужно будет ее серьезно учить рисовать, и продолжала рассказ:
– Когда еще жили мы нашей большой семьей, видела я, как люди по-разному живут. И вроде как присмотрела я для себя, как бы и мне хотелось бы жизнь прожить. И очень мне нравились учителя – благородные господа. И не очень богаты, а в почете и в уважении живут. С прислугой. И уж очень мне захотелось, чтобы и моя Капочка стала учительницей. Вот и старалась, зарабатывала копеечку, чтобы дочку выучить. Ведь до революции и простому народу давали ход в жизни. И образование давали. Даже в деревнях до революции уж четыре-то класса школы обязательны были для деревенских детишек. А талантливым давали возможность в гимназии учиться, чтобы могли и в высшее учебное заведение поступать. Так и я мою доченьку до революции определила учиться в епархиальное училище. Ведь мы люди церковного круга по работе своей были до революции – иконописная мастерская, в церквях работали. А епархиальное училище готовило учителей младших классов. Учили бесплатно. Хорошо учили, благородно. Это уж потом, после революции, никому наши иконы не нужны стали. Да и опасно стало все, что связано с церковью. Потому что все, что с церковью связано, после революции новой власти было враждебно. И заикнуться о том, что мы иконописная мастерская, – нельзя было. Стал народ жечь иконы, а не покупать. И пришлось всему нашему семейству разбрестись кто куда в поисках куска хлеба, спасаться. Точно осколки, рассыпались по жизни – разметала нас судьба. Благо, что навыки к кочевой жизни у нас крепкие были. Я в прислуги пошла к новым богачам работать. Кухаркой была. Мне ведь главное было доченьку Капочку вырастить и на ноги поставить. Так что успела я до революции доченьке – вашей маме – образование дать, хотя и растила ее одна. Епархиальное училище – бесплатно готовило учителей для младших классов в школе. Ведь еще до революции в царской России было введено всеобщее школьное образование – четыре класса, даже для крестьянских детей, – по всей России. Так что учителя очень нужны тогда были, – взгрустнулось от нахлынувших воспоминаний Елизавете Яковлевне.
Почему и как сложилась судьба Елизаветы Яковлевны Бегутовой, что осталась она одна с маленькой дочерью на руках, об этом она только вздохнула и продолжила вспоминать, но уже молча. Потому что – ох, уж не для детских ушей этот отрезок ее жизни.
Выдали Лизоньку – самую младшую в семействе – замуж в 16 лет. Ясноглазую, с точеным, точно алебастровым лицом. Стройную красавицу с изящным росчерком горделивых бровей и точеных норовистых ноздрей. Не по ее воле, не по любви, а как папенька приказал. Решил так распорядиться судьбой своей младшей дочери Яков Бегутов от страха перед жизнью, потому что опасался за будущее своей семьи и Лизонькино будущее, потому что оба с женой начали слепнуть. А Лизонька была у них поздним ребенком, потому боялся вольный иконописец, что не сможет защитить от житейских невзгод свою младшенькую. Вот и поторопился дочку пристроить замуж. Но молодую, романтичную девушку в бурной, полной шального революционного брожения Казани в конце 19 века тоже задела волна вихря времени большого соблазна умов. И как уж такой грех случился, но случилась пылкая влюбленность у замужней Лизоньки, соблазненной молодым революционером по имени Карп. И в одну из темных ночей Лизонька с приготовленным накануне узелком своей одежды вылезла из окошка мужниного дома и сбежала со своим любимым смутьяном и возмутителем спокойствия Карпом.
И началась у Лизоньки – Елизаветы Яковлевны – совсем иная жизнь. Скрываясь от мужа, она проживала по поддельным документам с любимым на съемных квартирах, которые время от времени приходилось менять. Не только из-за нелегального положения молодой влюбленной пары, но и потому что ее любимый Карп был занят опасной революционной деятельностью. А квартира была местом, где собирались на сходку революционеры, чтобы готовить России будущую смуту 1917 года.
И перевернулась вся-то прежняя ее жизнь. Совсем иная наступила для нее жизнь, без прежних правил и устоев. Когда собиралась сходка революционеров, она стояла «на шухере», чтобы в случае облавы – появления полицейских – предупредить, защитить революционеров от ареста. Но, видимо, все это она воспринимала, как нечто окруженное ореолом романтичности и придающее особый привкус сладости запретного плода ее любви, и все это не было отягощено грузом реальной и объективной оценки происходящего вокруг нее. Потому что когда ее возлюбленного Карпа все же арестовали, она сделала из случившегося неожиданно категорический вывод: «Приличных людей в тюрьмы не сажают!».
И, когда Карп – бывший муж и отец ее дочери Капитолины – вернулся с царской каторги, повторила и ему тоже самое и наотрез отказалась продолжать прежнюю революционную жизнь, полную риска и опасности. Но дочь Капочку бывший политкаторжанин поддерживал и материально, и по-человечески – всегда помогал, хотя на каторге, как выяснилось, у него появилась близкая ему по духу подруга, также из политических ссыльных.
Но с дочерью встречался, а помощь его стала просто необходимой, потому что разразившиеся в 1917 году обе революции окончательно уничтожили привычный уклад жизни. Тот уклад жизни, который был особенно дорог Елизавете Яковлевне, рухнул, похоронив под обломками ее надежды и мечты на спокойную добротную жизнь в семье дочери-учительницы. Безработица и голод, тиф и все ужасы революции обрушились на людей. А революционер и бывший политкаторжанин Карп был близок к Ленинскому кругу и занимал какую-то высокую должность в новом революционном правительстве. Когда в 1918 году возникла ситуация с белочехами, пришлось Елизавете Яковлевне с дочерью бежать из Казани в Москву, где в это время находился Капочкин отец – пламенный революционер. Благодаря его хлопотам, его дочь Капитолина была принята лично Н. К. Крупской как молодой педагог младших классов с полученным до революции образованием в епархиальном училище.
Н. К. Крупская доверила молоденькой учительнице сформировать из беспризорников детский дом под Дмитровом, в деревне Подъячево. Повязав красную косынку, в кожаной куртке, молоденькая Капитолина Карповна с помощниками организовывала рейды по поимке беспризорников, которых потом свозили в организованный детдом в Подъячево. Детская коммуна. Это было очень трудное дело, со всех сторон. И голод, и болезни. И полностью утраченная культура нормальной жизни у тех несчастных детей. Но и другая беда осложняла все попытки выстраивать новую жизнь. Вынужденное уголовное прошлое тех сирот-беспризорников, вышвырнутых революцией и Гражданской войной на улицу, подчинило и искалечило их сознание. Мешало войти в новую жизнь, принять предлагаемые им новые правила жизни в детских домах, в детских коммунах. Так что в детской коммуне не только девочки боялись выходить с наступлением темноты в туалет, находящийся на улице, но даже и молодые учительницы. Воровство, драки – словом, весь флер беспризорной жизни перекочевал вместе с беспризорниками в детские дома. Но Капитолина Карповна, поселившаяся в Подъячево вместе с матерью Елизаветой Яковлевной, и ее сотрудники работали и боролись с последствием разрухи, вторгшейся в жизнь страны на плечах революции 1917 года. До 1925 года Капитолина Карповна Григорьева, а после замужества в 1923 году – Белякова, работала там с удостоверением, в котором значилось «Ликвидатор безграмотности».
Довязывая носки на продажу, чтобы обменять их на одной из бесчисленных станций по пути в эвакуацию, все вспоминала и вспоминала прошлое Елизавета Яковлевна, с запоздалыми сожалениями о былом. С печальными размышлениями о том, что как всякий потоп по капельке собирается, так и грехи людские по капельке слагаются в одну большую беду. Запоздалые сожаления и раскаяние об участии в тех революционных сходках, которые и были теми каплями и ее греховности в общем потоке, который потопил, убил всю прежнюю жизнь, весь уклад жизни, выстроенный трудом и судьбами поколений, – облегчения ее душе не приносили. А теплушки, увозящие их в эвакуацию, тряслись, а холод и голод терзали немилосердно, словно радуясь живой добыче – жизнями тех, кто в надежде на спасение ехал в неизвестность эвакуации.
Капитолина Карповна проснулась и, увидев, что Елизавета Яковлевна достала икону Архангела Михаила, насторожилась. И поспешила вмешаться в ее уроки рисования для ее дочерей:
– Опять Вы, мама! Спрячьте икону! И умоляю – только не рисуйте иконы! Как давно все едем и едем, – тяжело вздохнув и закашляв, пробормотала она.
Елизавета Яковлевна, смутившись, забрала у внучек их рисунки. Убрала их себе под подушку и, словно оправдываясь перед дочерью за оплошность, пояснила:
– Так я же просто показать Капе, как я раньше писала иконы. Ведь и этого Архангела Михаила я сама написала, еще тогда в иконописной мастерской моего отца. Хорошо нам тогда было. Все вместе! Вся семья! Хочу поучить их рисовать.
– Поймите, мама! Их отец теперь даже не директор школы, как было до войны, а начальник Отдела пропаганды нашего города! Ляпнут лишнее девочки где-нибудь, просочится и дальше пойдет, что дочери номенклатурного работника иконы рисуют! И что с нами со всеми за это будет? Опасно!
Елизавета Яковлевна, желая замять неприятный разговор, вскрикнула:
– Ой! А кажется подъезжаем к какой-то станции! А я носок-то не довязала! – и с этими словами Елизавета Яковлевна стала торопливо довязывать носок, пока поезд замедлял ход. Другой, уже готовый лежал рядом.
Стихийный рынок около вагона возник неожиданно быстро. Елизавета Яковлевна устремилась туда. Зацепившись за ее подол, едва поспевая за нею, побежала и маленькая Маргарита, что-то зажавшая в ручонке.
Елизавета Яковлевна, держа в руках те самые носки, встала с ними в ряд торгующих, предлагая свой товар на обмен на что-то съестное. Рядом с нею встала и Рита. Подбежала к ним и Капа с чудесными кружевами Елизаветы Яковлевны, которые обычно вязала Елизавета Яковлевна вместо привычного рисования. Капа развернула их и держала на вытянутых руках. Но Елизавета Яковлевна отнюдь не похвалила ее:
– Внученька! Да кто же теперь кружева возьмет? Кому они нужны? Теперь война! Кругом теперь война.
Рита была очень серьезна и рада, что тоже «зарабатывает», держа на вытянутых руках два рисунка. На каждом дамы-королевы. Ее бабушка только что заметила это и усмехнулась.
В первом вагоне их поезда ехала в эвакуацию молодежь. Оттуда доносились песни.
– Красиво поют певуньи! Тоже в эвакуацию едут горемычные! Одни, без семей! Храни их Бог! – сказала Елизавета Яковлевна о первом вагоне, в котором ехала молодежь, одни, без взрослых. Это были в основном молодые девушки, лет 16—18, юные, чистые, прекрасные, с длинными косами – большая группа, занявшая первый вагон их эвакуационного каравана. Они пели, наверное, чтобы морально поддержать себя в эвакуации, вынужденных расстаться с домом, с семьями. Они пели так прекрасно, что все заслушивались их пением на остановках в пути в эвакуацию. И мама многие годы спустя все вспоминала, как она «канючила», упрашивая бабушку и маму «переселиться» в теплушку к этим дивным певуньям из первого вагона. Она наслушаться и налюбоваться на них не могла. И этот их спор с бабушкой о том, почему они не будут переселяться по желанию Риточки в первый вагон, неожиданно остановили проходящие мимо цыганки с пестрыми тюками, переброшенным через плечо, выкрикивая на весь рынок:
– Золото берем! Золото есть?
Одна из цыганок засмотрелась на Риту и ее рисунок. Усмехаясь, остановилась, опустив тюк на землю. Развязав его, достала потрепанную книгу с оторванной обложкой. Она обменяла ее на только что нарисованные Ритой рисунки. Кто-то обменял у Елизаветы Яковлевны довязанные ею носки на завернутый в газетную бумагу хлеб.
И с тем они вернулись к своей теплушке. Залезли со своей добычей обратно. Сначала, подняв на руках закутанную Риту и поставив ее в тамбур с ее добычей – книгой, следом и бабушка с Капой, помогая друг другу, залезли в теплушку.
Девочки набросились на хлеб – еще теплый, свежеиспеченный. Капитолина Карповна не потянулась к принесенному хлебу. Девочки ели, а она, мать, надев очки, разглаживала и перелистывала случайно доставшуюся потрепанную книгу. И потом стала читать вслух эту книгу:
– В 1843 году на Кузнецком Мосту усилиями славянофилов был демонстративно открыт русский магазин, где русскими были и товары, и приказчики. А со временем появились и известные отечественные модистки. Магазины мод и аксессуаров. Отечественные дома и магазины мод к концу IX – к началу ХХ века перестали быть редкостью. Знаменитые своими модными магазинами улицу и прилегающие улочки Кузнецкого Моста в начале ХХ века покорила великая Надежда Ламанова, открывшая свою фирму на Большой Дмитровке в 1885 году. Уже в 1900 году она была удостоена звания «Поставщика Двора Его Императорского Величества» за платья для императрицы Александры Федоровны. Надежда Ламанова стала главной соперницей изысканных французских модисток и имела самую высшую клиентуру – ей не раз предлагали переехать в Париж, но она была русской художницей…
Елизавета Яковлевна, услыхав имя Надежды Ламановой, разволновалась:
– Надежда Ламанова! Слава тогда о ней по всей России разлетелась! Да, как я мечтала у нее работать! Кружева я тогда плела замечательные. Мои узоры уж такие мастерицы встречались, а повторить не могли. И я шить любила с фантазией, хоть и по модным картинкам. И ну хоть что-нибудь от себя, а добавлю. Как-то подкинула и мне судьба козырь в жизни. Заказ у меня был. Невесту к свадьбе нарядила. И подружек невесты, как водится. И там и матушек-тетушек. И так красиво нарядила свадьбу, что хозяин дома, где я прислугой работала, это он женился – так вот, благодарный жених тогда по-царски расщедрился. И уж так украсила я невесту, что он заплатил мне столько, что хватило мне на осуществление моей мечты.
И открыла я тогда и у нас в провинции свой модный дом! Слово «ателье» тогда еще не в ходу было. И, закупив швейные машинки и все необходимое оборудование, приступила к созданию нарядной одежды для дам. Наняла мастериц. Заказала вывеску своего Дома модной одежды в модном стиле Модерн. Дело даже пошло, но… Вот мечта-то все и погубила. Собралась я в дорогу. Дела-то испокон веков в столицах делаются! И доверила своим работницам на некоторое время управление делом. Как позже показала жизнь, людям нечестным.
Все мое оказалось украдено, продано. Даже мои фотографии в своих модных изделиях, на которых я представляла свои работы, и то выпросить не удалось. Так что, обратно ехать в столицу было уже не с чем! Ведь это коммерция. А это мне не дано. Да! Надежда Ламанова! Мечта работать в ее доме моды осталась мечтой! – сказала Елизавета Яковлевна, но осеклась, вслушиваясь в происходящее, где-то за пределами их дребезжащей теплушки.
Руки ее со спицами замерли. И тут вдруг раздался страшный гул, взрывы. Их теплушку так тряхнуло, что все вещи, кроме иконы, попадали.
Она бросилась поднимать больную дочь и крикнула внучкам, чтобы не собирались, а, в чем есть, бегом бежали к выходу. Все выпрыгнули из теплушки в снег. Это был их первый, пережитый во время эвакуации артналет. Белый снег был испещрен взрывами. Бегущие люди в мгновенье оказывались трупами. Кругом крики и вопли смешались с грохотом взрывов. Кровь на снегу, убитые и ранены. Взрывы, крики и стоны – обезумевшая от страха Рита побежала в сторону от поезда. Но с воздуха ее преследовал на бреющем полете молодой немецкий летчик. Его лицо было так отчетливо видно, что Рита запомнила его на всю жизнь: то, как он хохотал, играя с нею – обстреливая ее кругами. Тут к Рите подбежала, грозя ему кулаком, Елизавета Яковлевна с огромным медным тазом в другой руке. Этим тазом накрыла свою Ритуську. Упав на него плашмя, замерла. Фашистский летчик делал круг за кругом вокруг них, обстреливая. Но вдруг, словно спохватившись, улетел бомбить сам поезд, начав с паровоза и первого вагона. Когда все стихло, Елизавета Яковлевна подняла пробитый кое-где таз. В сердцах отбросив его в сторону, прижимая к себе внучку, чтобы она не видела изуродованных убитых, набросила на голову внучки полу своего пальто, и стала пробираться среди ужаса разрушения, сама не зная куда. Пытаясь уйти от яркой теплой крови, от которой таял снег, от растерзанных трупов.
Бабушка кричала и звала внучку Капу и свою дочь, в надежде, что они живы. Стараясь укрыть голову Риты так, чтобы она не видела трупов, прижимая маленькую Риту к себе упорно волокла ее за собой мимо тех самых «певуний из первого вагона», пристально всматриваясь и боясь узнать в убитых дочь и старшую внучку. «Певуньи первого вагона» первыми приняли на себя ужас бомбежки. И теперь лежали на снегу, уже растерзанные, окровавленные, – разложенные вдоль насыпи тела с разметавшимися косами тех девушек. Девушек, лет 16—18, юных, тех самых, что пели так прекрасно, что все заслушивались их пением на остановках в пути в эвакуацию. Те самые из первого вагона дивные певуньи. Но по пути их стали первыми бомбить фашисты, на бреющем полете, так низко над землей, что не только эти убийцы-летчики отлично видели, кого они убивают, гоняясь за разбегавшимися во все стороны беззащитными людьми – в основном это были женщины и дети, но и их смеющиеся и озверелые рожи было видно с земли тем, кого они убивали. Бомбили жестоко, бесчеловечно. Но тогда семья уцелела. Елизавета Яковлевна повела Риту обратно к горящему составу, чтобы ждать помощи им – выжившим и раненным эвакуированным. Они с бабушкой шли по окровавленной насыпи, на которую стаскивали разорванные в клочья тела тех певуний и других погибших в этом аду бомбардировки. В снегу, подтаявшем от жара горящих вагонов, запекшаяся кровь смешалась с гарью и грязью – все это скользило под ногами страшным замесом смертного ужаса, под ногами метавшихся в надежде на спасение людей. Всю жизнь каждый год в мае Рита будет вспоминать это, оплакивая «певуний из первого вагона» – так, безымянно, поминая их. Тогда судьба пощадила ее семью, оставив всех четверых в живых. И смерть еще не взяла свою дань. Со временем их увез другой состав. И эвакуация продолжилась. Из имущества – уцелела только икона Архангела Михаила и та книжка, которую Рита засунула за пазуху своего тулупчика!