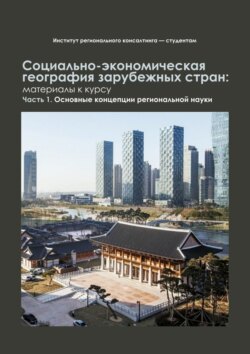Читать книгу Социально-экономическая география зарубежных стран: материалы к курсу. Часть 1. Основные концепции региональной науки - Надежда Юрьевна Замятина - Страница 4
Введение
1.2. Региональные инновационные системы как инструмент стимулирования эндогенного развития территорий
ОглавлениеПроблема понимания закономерностей дифференциации уровня социально-экономического развития территорий сохраняет свою актуальность не первое десятилетие. В свете парадигмы эндогенного экономического развития большое внимание уделяется инновационному процессу. Диффузия инноваций из регионов-лидеров и ведущих экономических центров в периферийные районы представляет собой естественный эволюционный процесс, эффективность этого догоняющего развития относительно низка. Каждая итерация передачи знания и технологий даёт всё меньший мультипликативный эффект, который в итоге и вовсе сводится к нулевому эффекту. Соответственно, более эффективным путем к преодолению социально-экономического неравенства может быть повышение инновационного потенциала самих отстающих регионов за счет грамотной региональной политики, направленной на раскрытие эндогенного потенциала территорий, поддержку местных предпринимательских инициатив с учётом локальной специфики. Стимулирование развития региональных инновационных систем (РИС) как драйверов экономического роста территорий считается одним из наиболее эффективных «рецептов» региональной политики.
Характеристика концепции
Термин «региональная инновационная система» был впервые предложен Филиппом Куком, но фактически представлял собой результат переосмысления разрабатывавшейся ранее концепции национальных инновационных систем (НИС). Центральным для обеих концепций стало понятие «инноваций», под которыми (в широком смысле) подразумевают не только новые продукты или знания, но и сопутствующие им обновления технологических процессов и форм промышленной организации [Cooke, Uranga, Etxebarria; 1998].
Классический взгляд в рамках данного подхода подразумевает, что инновации могут рождаться только в условиях динамично развивающейся экономики, обусловливающей необходимость постоянного поиска новых методов повышения эффективности и конкурентоспособности субъектов1. Собственно, в динамичности как свойстве инноваций отражены черты эволюционного подхода, в то время как принципы неоклассической экономической теории («невидимая рука рынка», рыночное равновесие, максимизация прибыли и полезность) оказываются неприменимы. Более того, в последние годы наблюдается тренд на дальнейшее усложнение интерпретации природы инноваций: ранее они рассматривались как линейный процесс перетока знания от центров НИОКР к крупным коммерческим и некоммерческим акторам экономической системы, далее последовательно распространяющим инновацию по своим сетевым каналам. В настоящее время под инновациями понимают более сложный процесс интерактивного обмена знаниями, на стыке которых в конечном итоге рождаются новые креативные идеи. Таким образом, главным инструментом генерации инноваций выступают не конкретные научно-исследовательские центры и лаборатории, а среда богатого социального капитала (доверия, солидарности, гражданская активности, взаимодействия) [Cooke, Uranga, Etxebarria; 1998].
Ключевые динамические характеристики среды – способность к восприятию внешнего опыта (absorptive capacity), обучение как инструмент поддержания способности к созданию инноваций (learning economy), «неявное» (также используются понятия «некодифицируемое» или «нетранспортабельное» знание – передаваемое исключительно путём личного взаимодействия, tacit knowledge). Системный подход в свою очередь ставит акцент на возникновении разнообразных связей между отдельными элементами инновационной системы (closely knit social-cultural links & willingness to cooperate).
РИС состоит из трёх основных компонентов: акторов (1), сетевых связей (2) и институтов (3). Задача акторов заключается в непосредственной генерации нового знания, при этом они могут быть представлены тремя типами субъектов, активно взаимодействующих между собой (т. н. «тройная спираль»): бизнес-агенты, университеты и правительственные учреждения. Отдельно стоит подчеркнуть роль университетов как функциональных ядер РИС, обеспечивающих формирование высококвалифицированного человеческого ресурса территории [Schaeffer, Fischer, Queiroz; 2018]. Более того, выпускники одних вузов склонны к большему доверию друг к другу, что также способствует формированию благоприятной среды доверия внутри РИС. Функция бизнес-акторов состоит в реализации предпринимательской активности при комплексной поддержке со стороны местных, региональных и государственных органов управления.
В результате активного взаимодействия акторов РИС формируется плотная сеть связей, важнейшими характеристиками которой выступают подвижность и степень близости. Подвижность сетевых связей как индикатор открытости РИС часто определяется местными неформальными институтами – устоявшимися на территории, социокультурными установками населения, способствующими либо, наоборот, препятствующими местному развитию инноваций.
В случае РИС также уместно обращение к концепции близости (proximity): важную роль в формировании среды доверия играют социальный, когнитивный и институциональный виды близости (в трактовке Рона Бошмы), иными словами, землячество, самосознание и региональная политика. Таким образом, под влиянием местных институтов в рамках региона складывается среда, пронизанная тесными социальными связями (соответственно, жители имеют мощный социальный капитал); такая среда является необходимым условием непосредственного взаимодействия акторов инновационной системы, объединенных в гибкие сети через совокупность тесных формальных и неформальных связей.
Теоретическое поле
Концепция РИС представляет собой результат эволюционного перехода НИС на субнациональный уровень анализа с целью более глубокого понимания процесса создания и распространения инноваций. Работы Фримана, Лундвалля, Нельсона и др. исследователей НИС заложили мощный теоретический фундамент, основные положения которого вошли в концепцию РИС практически без изменений. Одним из первых в универсальности НИС усомнился Франко Малерба: на примере Италии он доказал, что сквозь призму государственных программ регионального развития выявить локальные источники инновационного роста невозможно. Иными словами, анализ в рамках НИС позволяет зафиксировать лишь результат внедрения инноваций, без какого-либо понимания их природы. Для Италии в целом характерно создание нового знания в пределах небольших ареалов локальных сообществах – в условиях доверия и тесных связей между акторами инновационного процесса [Cooke, Uranga, Etxebarria; 1998]. Следовательно, «районы Беккатини» являются частным примером РИС.
Постепенное смещение исследовательского интереса от концепции НИС в пользу РИС также обусловлено неоднозначностью интерпретации понятия «национальной системы». Фриман, Лундвалль и Нельсон рассматривали её в качестве совокупности форм общественных отношений в пределах одной страны, при этом страна представляла собой универсальное, интегрированное пространство, без какой-либо внутренней дифференциации интенсивности обмена знанием от места к месту.
Недостаток столь общего подхода – игнорирование барьерных границ внутри стран, особенно в случае многонациональных государств, территориальная организация которых во многом определяется идентичностью отдельных групп населения. Так, в пределах одной страны могут формироваться относительно замкнутые, автономные системы создания и последующей циркуляции инноваций (собственно, РИС). Классические примеры таких регионов – Фландрия и Валлония в Бельгии, страна Басков и Каталония в Испании, Шотландия и Уэльс в Великобритании и др. В данном случае инновационные системы локализованы чётко в пределах административно-территориальных единиц, которые в свою очередь были выделены «сверху» по принципу сохранения культурно-исторической идентичности территорий. Этот процесс формирования РИС Ф. Кук называет регионализацией (regionalisation).
Второй альтернативный процесс – регионализм – носит конструктивистский характер: формирование особой среды социального доверия и тесных сетевых связей происходит под действием эндогенных факторов (инициативы «снизу»), часто в условиях слабой или низкоэффективной поддержки со стороны государства. Впоследствии на базе накопленного социального капитала в регионе может быть инициировано создание новой, формально закрепленной структуры управления как выражения положительной санкции со стороны государства [Cooke, Uranga, Etxebarria; 1998].
Сильные и слабые стороны
Так как создание РИС базируется на эндогенном потенциале территории, они учитывают местный контекст и особенности сложившейся траектории регионального развития. Таким образом, происходит не агрессивное насаждение инноваций извне, а поступательное встраивание ноу-хау в культурную среду региона, что является одним из главных преимуществ подхода. Одна из основных целей РИС – стимулирование модернизации старопромышленных районов и традиционных кластеров и переход на новые, инновационные пути развития (innovative trajectories).
Высокая эффективность в рамках РИС достигается за счёт точечной концентрации прорывных знаний. Географическая близость обусловливает возможность взаимодействия их носителей, которое в свою очередь может быть дополнительно усилено влиянием других видов близости. В то же время устойчивый рост интенсивности инновационных процессов в ядре РИС создаёт риски углубления социально-экономического неравенства с другими частями региона. Из этого следует необходимость постоянного мониторинга ситуации и параллельного создания инструментов транслирования инноваций ядра на периферийные и полупериферийные территории. Также среди недостатков концепции стоит отметить неясность характера взаимодействия нескольких РИС одной страны, отсутствие универсальных количественных показателей, определяющих факт инновационности региональной системы, а также отсутствие универсальных механизмов формирования и функционирования РИС (таблица 1).
Вопрос о среднем территориальном охвате РИС и возможности их масштабирования также остаётся открытым. Более того, Ф. Кук утверждает, что и кластеры М. Портера формально представляют собой частный случай высококонцентрированной в пространстве РИС с общенациональной или глобальной специализацией. В то же время однозначно определить, с какого момента влияние кластера выходит за пределы его промышленной зоны, приобретает региональное значение и, соответственно, может рассматриваться как инновационная система, довольно сложно.
В качестве примера формирования РИС в результате расширения масштаба сетевых связей кластера с учётом фактора регионализма рассмотрим технополис «София-Антиполис».
Территория
Технопарк «София-Антиполис» был создан в 1970-х гг. на территории региона Прованс – Альпы – Лазурный берег, к северо-западу от Антиба и юго-западу от Ниццы (Южная Франция). До организации технопарка территория характеризовалась исторически сложившейся моноспециализацией хозяйства, завязанной на развитии туризма. В настоящее время регион является мощным ядром инновационного развития не только Южной, но и всей Франции; среди отраслей промышленности наибольшее развитие получили микроэлектроника, фармацевтика, биотехнологии и энергетика. На 2022 г. технопарк «София-Антиполис» носит почётное название крупнейшего индустриального парка Европы: на его площадке базируется более 2,5 тыс. компаний различных областей специализации, 200 из которых являются иностранными. Численность занятых – около 40 тыс. человек, причём 11% представлены исследовательскими группами НИОКР. Основным источником высококвалифицированных трудовых ресурсов выступает Университет Ниццы, ежегодно выпускающий до 5,5 тыс. специалистов, лучшие из которых получают возможность трудоустройства в ведущих компаниях технопарка. С 1989 г. Университет Ниццы был переименован в Университет Ниццы – София-Антиполис с целью подчеркнуть глубину интеграции бизнеса, высшего образования и инноваций в рамках региона [Sophia-Antipolis, 2022].
«Как это работает?»
Реализация проекта технопарка «София-Антиполис» включала три главных этапа [Longhi, Quéré; 1993]:
I этап (1972—1975 гг.). Инициатива создания города «науки, культуры и мудрости» [Longhi, Quéré; 1993] была выдвинута Пьером Лаффитом, уроженцем коммуны Сен-Поль-де-Вансе, округа Грас, департамента Приморские Альпы, занимавшего на тот момент пост директора Высшей национальной горнорудной школы. Инициатива носила сугубо частный характер и фактически базировалась на утопических идеях Лаффита. Первым этапом реализации проекта он руководил в одиночку. Уже тогда были заложены ключевые принципы функционирования технопарка: акцент на развитие НИОКР (в то время как промышленные объекты занимали второстепенное положение) и экологичность. Проблемы, связанные со строительством дорогостоящей инфраструктуры, чуть было не сорвали индивидуальный проект Лаффита, однако он сумел вовремя заручиться поддержкой местных органов власти, обрисовав им перспективы инновационного развития региона при поддержке будущего технопарка [Industry Park, 2012]:
«Я должен сказать о Sophia Antipolis. Фонд был создан более 40 лет назад на частной основе, без всякой помощи со стороны правительства. Это было очень трудно. Многие думали, что мы не справимся, но все получилось…».
II этап (1976—1980 гг.). В проект создания технопарка «София-Антиполис» включились местные муниципальные власти, активно развернувшие маркетинговую кампанию по привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ) с целью получения дополнительного финансирования (то, чего не хватило Лаффиту при попытке индивидуальной реализации проекта). Американские фирмы, стремившиеся в тот момент усилить собственные позиции на европейском рынке, впоследствии сыграли роль ключевых инвесторов в создании технопарка «София-Антиполис». Кроме того, устойчивому росту проекта способствовало выгодное ЭГП технопарка: размещение в пределах Солнечного пояса Французской Ривьеры и близость международного аэропорта Ниццы.
III этап. С 1981 г. технопарк «София-Антиполис» входит в стадию устойчивого развития, наибольшие темпы роста занятости (рисунок 2) были отмечены в таких отраслях, как микроэлектроника и фармацевтика (рисунок 3).
Рисунок 2 – Динамика занятости в технопарке «София-Антиполис», 1970—1990 гг. Источник: [Longhi, Quéré; 1993]
Рисунок 3 – Динамика секторальной занятости в технопарке «София-Антиполис», 1970—1990 гг. Источник: [Longhi, Quéré; 1993]
Создание мощной экономической базы укрепило региональные позиции технопарка, а также предоставило ему возможность перейти от зависимого (от ПИИ) к автономному развитию. Более того, динамичное усиление агломерационного эффекта «София-Антиполис» способствовало втягиванию полупериферии в активные экономические отношения. Установление тесного сотрудничества с университетом Ниццы также сыграло роль мощного драйвера развития технопарка, который ввиду построения широкой сети разнообразных связей на базе местного сообщества также может рассматриваться в качестве региональной инновационной системы.
В настоящее время наряду с международными проектами технопарк «София-Антиполис» продолжает расширять возможности развития местных стартапов, а также максимального использования регионального человеческого капитала. Создание инноваций – интерактивный процесс, следовательно, ключ к поддержанию конкурентоспособности технопарка интенсификация межличностного взаимодействия с целью усиления перетоков знания между отдельными акторами. Для этого в рамках технопарка регулярно проводятся различные отраслевые, просветительские и развлекательные мероприятия, например: Sophia Business Angels (площадка под стартапы, 1998 г.), форумы «Global Forum!» (2000 г.), Competitiveness Cluster Forum (2004 г.) и др. Исключительную важность накопления человеческого и социального капитала отмечал и Пьер Лаффит в своём интервью [Industry Park, 2012]:
«Мы стараемся организовывать как можно больше разных мероприятий для того, чтобы люди могли общаться… То есть, гибкость и мобильность – это тоже важные наши характеристики, они важны для будущего».
«Нет ли преувеличения?»
В данном случае определить технопарк как ядро РИС позволяют следующие признаки:
– Создание технопарка было инициировано уроженцем региона (местная инициатива) Пьером Лаффитом, однако осуществление проекта стало возможным лишь после привлечения прямой поддержки местных властей (муниципальных органов). Проект приобрёл региональное значение и признание. Активное сотрудничество с университетом Ниццы – обширный пул высококвалифицированных кадров. Итого: наблюдается взаимодействие трёх акторов РИС (тройная спираль!); технопарк «София-Антиполис» в роли бизнеса, региональные структуры власти в роли государства и университет Ниццы.
– Модернизация исходной хозяйственной специализации региона – переход от туризма к диверсифицированной экономике, основанной на знаниях;
– Роль экстерналий Джекобс как фактора развития технополиса [Industry Park, 2012]:
«…инновации происходят гораздо быстрее, когда люди, обладающие разными знаниями, разными характеристиками, представляющие разные культуры, представители промышленности, науки собираются вместе.»;
– Наличие широкой сети производственных связей, выходящих за пределы технопарка;
– Важное экономическое значение технопарка «София-Антиполис» как на региональном, так и на национальном уровнях.
Выводы
Несмотря на то, что границы применимости концепции региональных инновационных систем до сих пор остаются неопределёнными, механизмы их организации исследованы достаточно подробно для решения прикладных задач региональной политики. Создание РИС позволяет проводить постепенную модернизацию старопромышленных регионов и выводить их на новые траектории развития (innovative trajectories). При этом движущая сила обновления экономики рассмотренного региона – местные социальный и человеческий капиталы. Развитие, основанное на эндогенном потенциале, способствует сохранению уникальности и самостоятельности территории в рамках общей социально-экономической динамике страны.
Е. А. Парамзина
Литература
1. Braczyk H.-J., Cooke P., Heidenreich M. Regional Innovation Systems: The Role of Governances in a Globalized World. – Routledge, 2004. – 464 p.
2. Cooke P. Regional Innovation Systems, Clusters, and the Knowledge Economy // Industrial and Corporate Change. – 2001. – Vol. 10. – №4. – P. 945—974.
3. Cooke P. Regional innovation systems: Competitive regulation in the new Europe // Geoforum. – 1992. – Vol. 23. – №3. – P. 365—382.
4. Cooke P., Uranga G. M., Etxebarria G. Regional innovation systems: Institutional and organisational dimensions // Research Policy. – 1997. – Vol. 26. – P. 475—491.
5. Cooke P., Uranga M. G., Etxebarria G. Regional Systems of Innovation: An Evolutionary Perspective // Environment and Planning. – 1998. – Vol. 30. – №9. – P. 1563—1584.
6. Longhi C., Quéré M. Innovative Networks and the Technopolis Phenomenon: The Case of Sophia-Antipolis // Environment and Planning C: Government and Policy. – 1993. – Vol. 11. – №3. – P. 317—330.
7. Пьер Лаффит: «Нужно чтобы создались команды людей, которые будут брать в свои руки свое будущее» // Industry Park, 2012 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://industrypark.ru/news/208 (дата обращения 01.05.2022).
8. Our history // Sophia-Antipolis, 2022 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sophia-antipolis.fr/en/history/ (дата обращения 01.05.2022).
1
Есть и иные точки зрения, например, исследователи удаленных (северных, пустынных и иных труднодоступных) регионов многократно отмечали, что зачастую в таких регионах инновационный процесс также активен – к этому вынуждает необходимость выживания в сложных условиях.