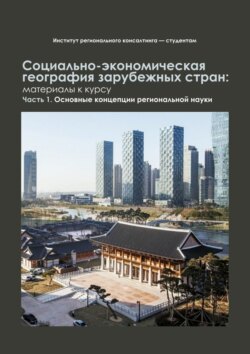Читать книгу Социально-экономическая география зарубежных стран: материалы к курсу. Часть 1. Основные концепции региональной науки - Надежда Юрьевна Замятина - Страница 5
Введение
1.3. Тройная спираль: пример Иннополиса Тэдок (Республика Корея)
ОглавлениеПосле исчезновения социалистического блока в мировой экономике практически возобладала концепция экономики, основанной на знаниях [Leydesdorff, 2012]. Одним из ключевых элементов в этой «новой экономике» (как ее иногда называют) стали исследовательские центры, основная задача которых – генерация инноваций. Инновации обеспечивают технологические изменения, усложнение цепочек добавленной стоимости во всех секторах экономики, рост ВВП и смену технологических укладов (продвижение по циклам Кондратьева). В XIX – начале XX в. вклад исследовательских центров (университетов) в экономику – линейные инновации (по модели «затраты – выпуск»). В ставшей уже классической концепции национальных инновационных систем (НИС) Р. Нельсона и Б. А. Лундвалля ведущую роль в создании инноваций играют фирмы (бизнес). Данная эволюционная модель имеет дело уже не с множеством отдельностей, а с сетями инноваций. Модель «тройной спирали» подразумевает более сложное (коэволюционное) взаимное влияние и развитие трёх основных групп акторов (институтов): университетов, государства и бизнеса [Etzkowitz, Leydesdorff, 1995]. Во главу угла ставятся уже не фирмы, а университеты.
Характеристика концепции
Концепция «тройной спирали» (англ. «triple helix») разрабатывалась на рубеже XX—XXI в. двумя экономистами: британцем Генри Ицковицем (англ. Henry Etzkowitz) и голландцем Лойетом Лейдесдорфом (англ. L. Leydesdorff) [Etzkowitz, Leydesdorff, 1995; Etzkowitz, 2003]. Она представляет процесс создания инноваций как взаимодействие университетов, бизнеса (пром-ти) и государства (UIG: University, Industry, Government).
В различных национальных или региональных инновационных системах (РИС) эти институты взаимодействуют с разной интенсивностью и в рамках разных иерархий. Например, в СССР и других социалистических государствах, в Латинской Америке или Норвегии ведущая движущая сила тройной спирали на протяжении XX века – государство (рисунок 4.А). В США, Швеции или странах Западной Европы элементы спирали обычно существовали независимо, взаимодействуя попарно (рисунок 4.Б) [Etzkowitz, Leydesdorff, 2000]. Наиболее сложная модель тройной спирали, возникающая в постиндустриальной экономике локально в некоторых кластерах, появляется при наложении трёх «инновационных сфер», их тесном взаимодействии не только в парах государство – университет, бизнес – государство и университет – бизнес, но в рамках трёхстороннего сотрудничества (рисунок 4.В).
Рисунок 4 – Модели тройной спирали
Источник: [Ицковиц, 2011]
Тройная спираль образца административно-командной экономики в значительной степени рассматривается как неудачная модель развития, так как в ней чрезвычайно мало возможностей для инициатив «снизу вверх». Как считает Ицковиц, инновации в ней скорее не поощрялись, чем поощрялись. Тройная спираль в классической рыночной экономике предполагает политику невмешательства, которая в 1990-х годах зачастую становилась «шоковой терапией» для уменьшения роли государства в тройной спирали социалистических экономик.
На современном этапе большинство стран старается достичь сбалансированной модели тройной спирали. Генеральной линией становится создание инновационной среды, наполненной дочерними предприятиями университетов, трехсторонними инициативами по экономическому развитию, основанному на знаниях, и стратегическими альянсами между фирмами (крупными и малыми, работающими в разных областях и с разным уровнем технологий), государственными институтами и академическими исследовательскими группами. Эти механизмы часто стимулируются и отчасти координируются, но не контролируются государством [Etzkowitz, Leydesdorff, 2000].
На первых этапах создания нового знания основная работа ведётся внутри университетов при плотном взаимодействии с государством и при облегчённой диффузии знания в бизнес. Воплощение инновации в жизнь – прерогатива предпринимателей, опять же, в контакте с государством [Смородинская, 2011].
Инновационная среда базируется на возникновении трёх сетевых пространств. На небольшой территории в рамках научных коллективов возникает «критическая концентрация идей» – локализованное пространство знаний (рисунок 4.Г) [Etzkowitz, 2002]. Трансфер инноваций при встрече исследователей и бизнеса (иногда при «сводничестве» властей разных уровней) и налаживание связей между ними происходит в пространстве согласия. Реализация совместных проектов, использование нового знания – пространство инноваций [Смородинская, 2011]. Три элемента системы обеспечивают непрерывность, сложность и спонтанность инновационного процесса, включающего создание и передачу нового знания [Cooke, Uranga, Etxebarria, 1993]. Государство в такой модели – один из трёх необходимых и равноправных элементов, но не главенствующий, а лишь координирующий.
Спиральная модель инноваций учитывает сложные и многочисленные связи между университетами и обществом «на разных этапах капитализации знаний» [Etzkowitz, Leydesdorff, 1995, p. 2]. При этом университет – самый гибкий институт генерации и распространения знаний, поэтому и имеет в концепции Ицковица и Лейдесдорфа более высокий статус, чем государство или бизнес [Ицковиц, 2011]. При этом изначально государство вообще не рассматривалось как институт, равный двум другим, но позже исследовали пришли к выводу, что власти (особенно региональные) также являются важным актором. А ответ на вопрос, почему же именно университеты занимают ведущую роль в модели, а не, например, исследовательские центры, заключается в крайне повышенной концентрации молодёжи (студентов) в ВУЗах, что наделяет этот институт уникальной особенностью и важным конкурентным преимуществом [Ицковиц, 2011].
Концепция родилась из сочетания двух местами противоречащих друг другу моделей: неоинституциональной модели Ицковица, фокусирующейся на межинституциональных сетях и обменах, – и модели Лейдесдорфа, рассматривающей неоэволюционные механизмы обмена между функциями (создание богатства, производство знаний и нормативный контроль). В итоге, по версии Ицковица, тройная спираль – однонаправленное иерархизированное взаимодействие отдельных сфер (институтов). В этой модели может возникнуть сложная динамика, допускающая самоорганизацию для взаимной корректировки различными акторами без необходимости трехсторонней координации. Например, отношения могут быть асинхронными, но, тем не менее, отлаженными. В этих условиях дифференцированная конфигурация (по Ицковицу) сможет обрабатывать более сложные задачи, чем интегрированная (по Лейдесдорфу), поскольку интеграция в центре будет налагать (потенциально нормативные) ограничения [Leydesdorff, Sun, 2009].
Согласно Лейдесдорфу, источники инноваций в тройной спирали не синхронизированы априори и не сочетаются друг с другом в заранее определённом порядке. Эффекты тройной спирали не могут быть сведены к вкладу конкретных элементов (субдинамик) из-за ожидания нелинейных взаимодействий между ними. В его представлении, ключевая область генерации нового знания – именно наложение трёх сфер [Leydesdorff, 2012]. Подход Лейдсдорфа в большей степени находится в области теории коммуникаций, где рождение инноваций возникает при контакте трех и более акторов сети, обладающих различными ресурсами. В процессе селекции среди сложных и случайных сочетаний ресурсов разных институтов (акторов) отбирается наиболее подходящая в текущих условиях конфигурация [Leydesdorff, 2008]. «Непрерывность процесса селекции и перекомпоновки становится источником синергетического инновационного эффекта, что обеспечивает наращивание базы знаний и, соответственно, продвижение системы вперед» [Смородинская, 2011, с. 70].
В 2010-х годах авторы предложили модификацию модели, в которой появляется четвёртая спираль – глобализация [Leydesdorff, Sun, 2009]. Лейдесдорф обращал внимание на пример анализа ОЭСР европейских регионов, где за базовые и априорные элементы берутся административные единицы. Знания (например, патенты) рассматриваются как внешние источники экономической деятельности и анализируются только контекстуально (например, с точки зрения их количества). Однако патентные портфели Пьемонта и Ломбардии могут быть взаимодополняющими и синергетическими, поэтому требуется либо переосмысление границ регионов, что возможно в случае Северной Италии, но невозможно в случае взаимодействии японских и американских акторов, либо выведение внешних (иностранных) взаимодействий в отдельный институт (спираль) [Leydesdorff, 2012].
Теоретическое поле
Сами авторы концепции тройной спирали рассматривали её как улучшение модели национальных инновационных систем (НИС) Р. Нельсона и Б. А. Лундвалля. В модели НИС фирма играет ведущую роль в процессе создания инноваций, а в её доработке Дж. Сабато («треугольник Сабато») эта роль отводится государству [Sabato, 1975]. Однако Ицковиц и Лейдесдорф указывали на изменение среды, в рамках которой функционируют три рассматриваемых института (университеты, бизнес и государство). В постиндустриальной экономике, основанной на знаниях, между ними возникают сложные и неуловимые взаимодействия и синергия, порождающие нелинейное развитие и генерацию инноваций. Изменилась функция университетов, во многом лишив специализированные отделы внутрифирменной монополии на производство инноваций. «Старая модель инноваций мертва – не следует думать, что отдел R&D придумает что-то невероятное. Это сработает, только если вы единственный игрок на рынке» [Etzkowitz, Leydesdorff, 1995].
Тройная спираль как аналитическая модель добавляет к описанию разнообразия институциональных механизмов и моделей политики объяснение их динамики [Etzkowitz, Leydesdorff, 2000]. Она побуждает исследователя размышлять о более чем двух возможных динамиках в виде рынков (бизнес) и управления (государство) [Leydesdorff, 2012].
Качественно новый способ упорядочить наши представления о взаимодействиях различных акторов в процессе генерации инноваций модель тройной спирали даёт при изменении функций университетов. «Первая академическая революция» происходила постепенно и длительное время, выражаясь в добавлении к преподавательской функции университетов (передача знаний) исследовательской (создание знаний) [Etzkowitz, 2002]. «Вторая академическая революция» – становление во второй половине XIX века некоторых американских университетов как экономических акторов (сельскохозяйственные университеты) [Etzkowitz, 2002]. На их основе позже уже на закате индустриальной эпохи в ряде стран появились т. н. «предпринимательские университеты» («entrepreneurial university»), имеющие де-факто дочерние коммерческие организации, прямые двухсторонние связи с бизнесом и обширные сети выпускников. Пример такого учебного заведения – MIT (инновационный кластер «Route 128» вокруг Бостона) – технологический университет нового типа, созданный для «ознакомления промышленности со стратегическими исследованиями» [Etzkowitz, 1993]. Другой пример – Стэнфордский университет, во многом породивший Кремниевую долину в Калифорнии.
«Коммерциализации» духа университетов способствовал и частичный переход от индивидуального обучения, доминировавшего в академиях и школах веками, к групповому. Работа в студенческих коллективах («квазифирмах») в некоторых ВУЗах, например в бразильских, оказывается способной формировать на выходе готовые к работе бизнесы [Etzkowitz, de Mello, Almeida, 2005]. В постиндустриальную эпоху, в отличие от индустриальной, где инновации рождались как результат конкуренции, новое знание формируется в процессе кооперации [Смородинская, 2011].
Осознанию повышения роли университетов в инновационных системах способствовали и большая «технологизация» всех сфер жизни общества. Ицковиц и Лейдесдорф отдельно выделяют повышение «научности ведения войны», апогеем которой стал Манхэттенский проект [Etzkowitz, Leydesdorff, 2000]. На периферии, где высоко «институциональное расстояние» до национальных и даже региональных властей, университеты получили безальтернативную власть и статус «региональных организаторов инноваций». Особенно заметна подобная дифференциация по линии «центр – периферия» в сверхцентрализованных инновационных системах (например, в Португалии) [Etzkowitz, 2002].
Одна из основных идей, лежащих в основе концепции инновационных систем, заключается в том, что новое знание создаётся как внутри фирм, так и через взаимодействие между институциональными агентами, такими как университеты, бизнес и правительственные учреждения. Инновационные системы различаются с точки зрения того, как интегрируются потоки через сети и предоставляют ли они возможности для синергии. Сети обеспечивают только инфраструктуру знаний, в то время как база знаний инновационной системы формируется «разделением инновационного труда» между институтами [Leydesdorff, Fritsch, 2006].
Роль университетов в организации тройной спирали сильно зависит от региональных инновационных систем (РИС), но иногда и формируют их. В столичной РИС Венгрии, интегрированной в европейскую и мировую экономики, в западных районах с высокими показателями ПИИ и налаженным взаимодействием с австрийским и немецким бизнесом, и в восточных районах страны, выделяющейся повышенной ролью государства в экономике и жизни общества, тройные спирали формируются на разных основаниях [Lengyel, Leydesdorff, 2011]. Аналогичное разнообразие моделей функционирования тройных спиралей наблюдается и в Германии, где отсутствует единая НИС, так как исключительно высока роль региональных (земельных) правительств [Leydesdorff, Fritsch, 2006].
Сильные и слабые стороны концепции
Модель тройной спирали во многом не является самостоятельной концепцией, лишь (качественно) дополняя модели НИС и РИС. Поэтому она наследует часть сильных и слабых сторон «материнских» теорий.
К сильным сторонам концепции можно отнести индивидуальный подход к каждому региону, городу или кластеру. Модель способна объяснить динамику в конкретной точке как результат взаимодействия конкретных местных акторов. Тройная спираль способна указать на внутренний потенциал территории, гибка в организации и не требует повсеместного принятия лишь одной единственно верной модели взаимоотношений местных экономических, политических и образовательных агентов. Использование модели тройной спирали хорошо упорядочивает элементы сетей инновационных систем, их связи и отношения.
При этом концепция почти универсальна. Тройная спираль выстраивается везде, независимо от того, какой путь прошла страна [Etzkowitz, 2002]. В капиталистических доиндустриальных (или раннеиндустриальных) экономиках XIX века (США, Австралия, Канада) модель имеет ограниченное применение, но в отдельных районах (Бостон, Сиракьюс, Трой, Питтсбург, Монреаль, Торонто, Сидней) работает лучше многих иных теорий. В индустриальную эпоху и в рыночных, и в плановых системах модель также имеет немалую объяснительную способность (но в уже различных вариациях). В постиндустриальной экономике тройная спираль – основной механизм технологического развития, движущая сила инновационного процесса и, как считают ее авторы, – почти универсальная концепция.
Преимущество модели тройной спирали – её применимость в качестве рецепта возрождения депрессивных старопромышленных районов (Рур, Питтсбургская Пенсильвания, Западный Мидленд, Тэгу, Пусан и т. д.).
В ряду недостатков концепции выделим сложность оценки действия механизмов тройной спирали. Количественный подход, основанный на подсчёте совместных публикаций, патентов и проектов между представителями трёх основных институтов (университеты, бизнес и государство), явно недостаточен и неточен, так как не учитывает многих иных форм и способов взаимодействий внутри и между инновационными сферами.
Неясны и границы, в пределах которых на конкретной территории инновационный процесс – порождение тройной спирали. Элементы спирали разнесены в пространстве, а создание инноваций локализовать ещё сложнее. Ещё одна проблема – сложность и неявность механизмов генерации инноваций в тройной спирали. Модель зачастую представляется как «чёрный ящик», то есть в общем случае мы можем лишь наблюдать входящие условия (элементы сети) и исходящие результаты (инновации). Конкретный механизм установить крайне сложно, это возможно лишь при препарировании отдельных небольших кейсов, где количество акторов ограничено. В иных случаях преобразование взаимодействий инновационных сфер в новое знание видится как некий магический процесс.
Территория
В качестве примера в данном разделе выбрана НИС Республики Корея (РК) в целом и РИС района города Тэджон («Иннополис Тэдок»)2. Эти инновационные системы нельзя рассматривать отдельно друг от друга, так как первая в значительной степени сложена из второй, а РИС Тэджона ограничена условиями южнокорейской НИС. Во втором случае (Тэдок) на современном этапе развития инновационного кластера тройная спираль – наиболее подходящая модель описания его динамики. В первом же случае (инновационное развитие РК) рассматриваемая концепция имеет меньшую объяснительную силу, так как первые 40 лет бурного экономического роста экономики РК (1961—1998) обеспечивались из иных источников.
Южнокорейская НИС длительное время существовала в изоляции. Ближайшие соседи – страны «враждебного блока» (СССР, КНДР, КНР, Вьетнам) и бывшая метрополия (Япония). Единственный внешний источник инноваций до налаживания отношений с Японией – США [Park, Leydesdorff, 2010]. Специфика корейской модели развития обусловила главенствующую роль государства в инновационном процессе при сильном институте бизнеса (крупных чеболей) и крайне слабой роли университетов [Lee, Kim, 2016]. Начиная с 1960-х годов, когда после военного переворота и прихода к власти генерала Пак Чонхи (1961—1979), корейское правительство предприняло решительные действия по руководству исследованиями и разработками [Kwon, 2009]. Однако большая часть инноваций создавалась внутри фирм или перенималась ими от американских или японских доноров. Авторитарный, а в некоторые периоды диктаторский, стиль управления, и невероятно высокая роль военных в управлении не позволяли развиваться независимым институтам, в том числе занимающимся созданием нового знания.
В 1980-е годы политика изменилась, так как новые власти во главе с генералом Чон Духваном уделяли больше внимания выравниванию межрегиональных диспропорций в экономическом развитии. На первых этапах «корейского экономического чуда» основной приоритет отдавался Столичному региону (Сеул, Инчхон, Кёнгидо) и юго-восточному региону Кёнсан (Пусан, Ульсан, Тэгу, Чханвон, Куми) – родине южнокорейской хунты и большей части экономической и политической элит страны [Kim et al., 2011]. Во время срока Чон Духвана исследовательские центры при чеболях больше не работали изолированно, а начали сотрудничать с академическими коллегами.
Для удовлетворения собственных растущих потребностей крупный корейский бизнес стал создавать специализированные университеты и колледжи. Самый известный такой пример – POSTECH (Институт науки и технологий Пхохана), созданный одной из ведущих мировых сталелитейных компаний POSCO, базирующейся в Пхохане (Северная Кёнсан).
Данная политика продолжилась и расширилась при переходе корейской экономики от индустриальной эпохи к постиндустриальной, что совпало с демократизацией страны и отстранением от власти военных. Администрация Ким Ёнсама (1993—1998) стимулировала создание новых исследовательских университетов: GIST (Институт науки и технологий Кванджу), KIAS (Корейский институт перспективных исследований) и ICU (Университет информации и коммуникаций) [Park, Leydesdorff, 2010].
До начала 1990-х годов южнокорейские университеты рассматривались в качестве фабрик, производящих стандартизированные кадры для удовлетворения производственных потребностей, а не как важные исследовательские мощности южнокорейской НИС. Для активизации университетских исследований правительством были реализованы различные исследовательские программы.
Вследствие Азиатского финансового кризиса 1997—1998 гг. южнокорейский бизнес резко сократил инвестиции в НИОКР. Администрация Ким Дэджуна (1998—2003) начала принимать меры, стимулирующие исследовательскую деятельность университетов. Проект «Brain Korea 21» (BK21) был запущен для поощрения молодых преподавателей и аспирантов к созданию высококачественных результатов исследований, которые могли бы быть опубликованы в международных рецензируемых журналах [Park, Leydesdorff, 2010]. Акторы южнокорейской НИС стремятся увеличить исследовательскую активность, чтобы сократить разрыв с западными странами в краткосрочной перспективе, при этом исследовательская стратегия США, Канады и стран Европы ориентирована на повышение их накопительного потенциала и качества инноваций в долгосрочной перспективе. В конце 2000-х для стимулирования исследовательской активности администрация Ли Мёнбака (2008—2013) создала Министерство экономики знаний (Ministry of Knowledge Economy (MKE)) [Park, Leydesdorff, 2010].
Однако общие проблемы южнокорейской НИС остались прежними. Механизм тройной спирали не был активно задействован, так как создание инноваций коммерческим сектором не распространялись в университетскую сферу, а роль государства в их создании остаётся незначительной. Другими словами, научно-исследовательская деятельность, включая промышленные патенты и научные публикации, недостаточно хорошо интегрирована на национальном уровне, не говоря уже о международном [Park, Leydesdorff, 2010].
«Портфель инноваций» в Республике Корее куда более традиционный, чем в странах Западной Европы, например, в Нидерландах. Исследования в области биомедицины развиты недостаточно, вместо этого всё ещё наблюдается существенный перекос в сторону традиционных для южнокорейской экономики отраслях (автомобилестроении, химии, судостроении, электронике и электротехнике) [Park, Hong, Leydesdorff, 2005]. При этом экономика уже давно перешла от базирующейся на тяжёлой и химической промышленности к экономике, основанной на знаниях и технологиях [Park, Leydesdorff, 2010].
Неудачи Республики Корея в построении успешно работающего механизма генерации инноваций через модель тройной спирали наглядно демонстрируются следующим сравнением. Малайзия может иметь относительно высокий инновационный потенциал фирм (6-е место рейтинге ОЭСР 2014 г.) и уровень научных исследований (15-е место) благодаря активным взаимодействиям в области НИОКР, таким как технологическое сотрудничество (3-е место) и передача знаний (6-е место), даже если она занимает очень низкое место в общих и государственных расходах на НИОКР (31-е и 33-е места соответственно) [OECD, 2014; Lee, Kim, 2016].
Республика Корея занимает первое место в мире по интенсивности государственных вложений в НИОКР. Она же занимает высокое место (5-е) по количеству инфраструктуры НИОКР и количественным результатам (число сотрудников, количество учёных степеней, публикаций и патентов). Однако Республика Корея занимает низкое место по общей конкурентоспособности страны, уровню научных исследований (26-е место) и инновационному потенциалу фирм (28-е место). Низкие показатели у страны и по технологическому сотрудничеству между институциональными субъектами (39-е место) и передаче знаний (29-е место) [OECD, 2014; Lee, Kim, 2016]. То есть тройная спираль на уровне НИС в стране не работает, однако некоторые РИС, например, Тэджона, Сеула или Кёнгидо можно рассматривать как эталонные примеры реализации модели тройной спирали.
«Как это работает?»
Тэджон – один из крупнейших городов Республики Корея (1,5 млн человек), находящийся в центре страны. Большая часть межрегиональных магистралей проходит через Тэджон, а регион, центром которого он является (Чхунчхон) длительное время находился «под покровительством» местного уроженца и ближайшего соратника Пак Чонхи Ким Джонпхиля. Поэтому Чхунчхону и его столице удавалось сохранять среднее положение среди регионов страны по экономическому развитию, уступая лишь Столичному региону и Кёнсану [Kim et al., 2011].
Крупным промышленным центром Тэджон так и не стал, так как уступал приморским городам провинции (Сосан, Танджин, Тэсан), северным её городам, находящимся на периферии Столичного региона (Асан, Чхонан, Чинчхон), и соседнему Чхонджу. Значительный отток населения, административных и производственных функций произошёл в конце 2000-х годов, когда в соседнем муниципалитете был основа город Седжон, планировавшийся как новая столица страны.
При этом город является одним из лидеров экономического развития в стране, хоть и уступая некоторым другим городам. Основа динамичной и сбалансированной экономики Тэджона – удачное ЭГП и инновационный кластер Тэдока (район на севере города).
Развитие Тэдока началось в 1971 году, когда администрация Пак Чонхи создала в нём первый в стране (и в итоге крупнейший) государственный исследовательский институт – KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology). После этого Тэджон неуклонно наращивал свой статус инновационного центра, способного даже снижать аналогичный статус Сеула [Yoon, Park, 2017]. Идея и организация KAIST была придумана вице-президентом Стэнфордского университета Фредериком Терманом (переток инноваций из Кремниевой долины) и профессором Политехнического института Бруклина Чан Гымо (использование социальной близости и ресурсов диаспоры).
Институт не только готовил специалистов для самых передовых отраслей промышленности РК (в тот момент – электроника и судостроение), но и напрямую занимался трансфером знания между академической средой и бизнесом. Тэджон стал государственной исследовательской базой из-за создания рядом с KAIST множества крупных государственных научно-технических учреждений. Он служил платформой для совместных исследований, играя ведущую роль в создании сети межрегиональных отношений совместного изобретательства между государством и промышленностью. Следует отметить, что Тэджон является регионом с самым высоким уровнем межрегионального технологического сотрудничества между государством, университетами и бизнесом среди всех регионов Республики Корея. Половина взаимодействий между государством и промышленностью проходит через Тэджон [Yoon, Park, 2017].
В Тэдоке функционирует около тысячи коммерческих предприятий более 70 университетов и государственных научно-исследовательских институтов [Kim, Lee, 2009], выстроенных в рамках очень централизованной системы, поощряющей взаимодействия между отдельными её элементами (рисунок 5). В разные годы в Тэдоке были созданы: Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB), Korea Institute of Machinery & Materials (KIMM), Korean Research Institute of Chemical Technology (KRICT), Korea Institute of Energy Research (KIER), Korea Aerospace Research Institute, Korea Atomic Energy Research Institute и т. д. В Тэдоке расположен Центр управления полётами (руководит космодромом Наро на юге страны и работой спутников), KSTAR – проект Корейского института термоядерной энергетики, занятого разработкой термоядерного реактора в сотрудничестве с проектом ИТЭР, и многие другие уникальные для страны и Восточной Азии в целом учреждения.
Рисунок 5 – Сеть связей между университетами и правительственными учреждениями Тэджона
Источник: [Yoon, Park, 2017]
Большинство крупнейших компаний Республики Корея имеют свои исследовательские центры в Тэдоке, даже если штаб-квартира и производственные площадки находятся на другом конце страны (в Чханвоне, Ульсане или Йосу) [Kim, Lee, 2009]. Например, Hanwha Corporation (вооружения), Hanwha Chemical, LG Chem, GS Caltex, Lotte Chemical и Kumho Petrochemical (химия), Hankook Tire&Technology (шины), Samsung Heavy Industries (судостроение), Hansol Paper (бумага и полиграфия).
Как в случае двухсторонних взаимодействий, так и в случае работы тройной спирали по модели Лейдесдорфа, Тэджон (т. е. район Тэдок) является либо ключевым (промышленность – правительство, университеты – правительство), либо вторым после Сеула или столичной провинции Кёнгидо межрегиональным инновационным центром (рисунок 6). Даже если Тэджон не генерирует новое знание самостоятельно, то оно с большой вероятностью будут проходить через кластер Тэдока (местные университеты или бизнес) в процессе диффузии инноваций.
Рисунок 6 – Межрегиональные сети сотрудничества между институтами
тройной спирали в Республике Корея
Источник: составлено автором по [Yoon, Park, 2017]
«Нет ли преувеличения?»
Развитие Тэджона не обуславливается только работой модели тройной спирали. Разумеется, сыграло свою роль удобное логистическое положение города, агломерационные эффекты, исключительное покровительство властей на одном из этапов развития и близкое положение к Столичному региону. Тем более не объясняет рассматриваемая концепция всего процесса развития (да и даже какой-то значительной его части) страны в целом.
Тройная спираль – механизм, определяющий динамику развития инновационного кластера Тэдок лишь на финальной (на данный момент) стадии его развития (рисунок 7). Научное ядро кластера было заложено гигантскими усилиями и денежными вливаниями со стороны государства, концентрации фирм и исследовательских центров способствовал рост чеболей в других регионах (Кёнсан, Сеул), которые часто были вынуждены открывать свои центры разработок в Тэджоне под влиянием всё того же правительства. С определённого момента заработали агломерационные эффекты. И лишь в конце 1990-х годов, когда экономика Республики Корея трансформировалась в экономику, основанную на знаниях, механизмы модели тройной спирали помогли создать синергию между сошедшимися в Тэджоне бизнесом, академическим сообществом и правительством. Такой эффект в корейских условиях был бы невозможен без многолетнего удерживания «сверху» в кластере требуемых для работы тройной спирали акторов.
Рисунок 7 – Стадии жизненного цикла инновационного кластера
Источник: [Смородинская, 2011]
В других регионах и городах РК модель тройной спирали работает заметно хуже, чем в Тэджоне, Сеуле или Соннаме и Сувоне (главные инновационные центры провинции Кёнгидо). В них её механизм играет вспомогательную функцию. Например, наличие POSTECH в Пхохане помогает удерживать в городе многих субподрядчиков компании POSCO, малые и средние фирмы, не способные существовать в городе, где есть лишь несколько крупных доменных печей и порт, но отсутствует инновационная среда.
Выводы
Тройная спираль – удобная концепция для описания процессов создания, передачи и внедрения инноваций в экономиках, основанных на знаниях. При этом и в индустриальную эпоху данная модель способна объяснять значительную часть инновационных процессов. Концепция даёт сбои в случаях доминирования государственного сектора или чрезмерно высокой роли исследовательских центров фирм. Один из таких сложных случаев – экономика Республики Корея, выделяющаяся сильным государством при не менее влиятельном крупном бизнесе (чеболях).
Будучи качественной доработкой концепций национальных и региональных инновационных систем, модель тройной спирали применима на разных масштабах, поэтому отсутствие заметных её проявлений на уровне страны не говорит об её неприменимости на локальном или региональном уровнях. В Тэджоне тройная спираль функционирует на полную мощность, обеспечивая процветание местной экономики и её большую устойчивость, чем в случае Кожде (судостроительный центр), Йосу (химия), Кванъяна (металлургия) или Куми (электроника).
Ф. М. Чернецкий
Литература
1. Ицковиц Г. Модель тройной спирали // Инновации. – 2011. – №4. – С. 5—10.
2. Смородинская Н. Тройная спираль как новая матрица экономических систем // Инновации. – 2011. – №4. – С. 66—78.
3. Концевич Л. Р. О необходимости следовать единой русской практической транскрипции корейских слов // «Насущные вопросы кириллизации корейских имен собственных. Актуальные проблемы унификации системы транскрипции» – М., 2014. – С. 4—15.
4. Концевич Л. Р. Словарь географических названий Республики Корея. – М.: Наука. Вост. лит., 2018. – 734 с.
5. Cooke P., Uranga M. G., Etxebarria G. Regional innovation systems: Institutional and organizational dimensions // Research policy. – 1997. – Vol. 26. – №4—5. – P. 475—491.
6. Etzkowitz H. Enterprises from science: The origins of science-based regional economic development // Minerva. – 1993. – P. 326—360.
7. Etzkowitz H. Innovation in innovation: The triple helix of university-industry-government relations // Social science information. – 2003. – Vol. 42. – №3. – P. 293—337.
8. Etzkowitz H. Networks of innovation: science, technology and development in the triple helix era // International Journal of Technology Management & Sustainable Development. – 2002. – Vol. 1. – №1. – P. 7—20.
9. Etzkowitz H., de Mello J. M. C., Almeida M. Towards «meta-innovation» in Brazil: The evolution of the incubator and the emergence of a triple helix // Research policy. – 2005. – Vol. 34. – №4. – P. 411—424.
10. Etzkowitz H., Leydesdorff L. The dynamics of innovation: from National Systems and «Mode 2» to a Triple Helix of university—industry—government relations // Research policy. – 2000. – Vol. 29. – №2. – P. 109—123.
11. Etzkowitz H., Leydesdorff L. The Triple Helix – University-industry-government relations: A laboratory for knowledge based economic development // EASST review. – 1995. – Vol. 14. – №1. – P. 14—19.
12. Kim H. J., Lee J. H. Multi-scalar dynamics of cluster development: the role of policies in three Korean clusters // Journal of the Korean Geographical Society. – 2009. – Vol. 44. – №5. – P. 634—646.
13. Kim P. et al. (ed.). The Park Chung Hee Era: The Transformation of South Korea. – Harvard University Press, 2011. – 744 p.
14. Kwon K. S. Emergence of research and entrepreneurial activities of Korean universities // Conference on University-Industry Linkages and Economic Performance, College of Social Science, Seoul National University, 27th Feb. – 2009.
15. Lee Y. H., Kim Y. J. Analyzing interaction in R&D networks using the Triple Helix method: Evidence from industrial R&D programs in Korean government // Technological Forecasting and Social Change. – 2016. – Vol. 110. – P. 93—105.
16. Lengyel B., Leydesdorff L. Regional innovation systems in Hungary: The failing synergy at the national level // Regional Studies. – 2011. – Vol. 45. – №5. – P. 677—693.
17. Leydesdorff L. Configurational information as potentially negative entropy: the Triple Helix model // Entropy. – 2008. – Vol. 10. – №4. – P. 391—410.
18. Leydesdorff L. The triple helix, quadruple helix,…, and an N-tuple of helices: explanatory models for analyzing the knowledge-based economy? // Journal of the knowledge economy. – 2012. – Vol. 3. – №1. – P. 25—35.
19. Leydesdorff L., Fritsch M. Measuring the knowledge base of regional innovation systems in Germany in terms of a Triple Helix dynamics // Research policy. – 2006. – Vol. 35. – №10. – P. 1538—1553.
20. Leydesdorff L., Sun Y. National and international dimensions of the Triple Helix in Japan: University—industry—government versus international coauthorship relations // Journal of the American Society for Information Science and Technology. – 2009. – Vol. 60. – №4. – P. 778—788.
21. OECD. Main science and technology indicators // OECD Publishing. – 2014. – №1.
22. Park H. W., Hong H. D., Leydesdorff L. A comparison of the knowledge-based innovation systems in the economies of South Korea and the Netherlands using Triple Helix indicators // Scientometrics. – 2005. – Vol. 65. – №1. – P. 3—27.
23. Park H. W., Leydesdorff L. Longitudinal trends in networks of university—industry—government relations in South Korea: The role of programmatic incentives // Research policy. – 2010. – Vol. 39. – №5. – P. 640—649.
2
Здесь и далее для написания кириллицей корейских топонимов используется словарь под редакцией Л. Р. Коцевича [Концевич, 2018]. Для транскрибирования корейских имён используется система Концевича, согласно ей, фамилия пишется отдельно, а обе части имени – слитно [Концевич, 2014].