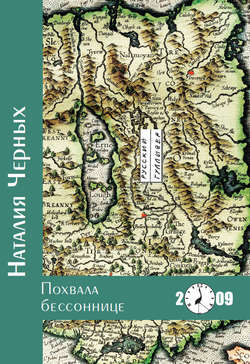Читать книгу Похвала бессоннице - Наталия Черных - Страница 2
Боль здесь – только боль
ОглавлениеБывают поэты, которые выражают время. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд, потому что в разных социальных стратах, при разных жизненных практиках время – разное. И кто из ровесников – лучший выразитель этого времени: аристократ Владимир Набоков или приказчик Алексей Сурков, маргинал Константин Вагинов или лидер Илья Сельвинский, а может быть вообще певец «любви на скамейке» Степан Щипачев?
Но есть поэты, время не выражающие, и вообще не выражающие ничего. Их творчество не выражает, а содержит: невроз, надежду, архетипический трепет, теплящуюся жизнь. Их трудно читать, о них неэффектно рассуждать, неактуально упоминать, непродуктивно (в смысле скудости получающегося продукта) описывать.
Потому что аффектированная боль «визуабильнее» боли отпускающей, концептуализированный опыт «интеллигибельнее» данного нам в ощущениях. Со всем этим материалом мы (читатели, коллеги, критики) просто не знаем, что делать. Уже не только обывательское, но и профессиональное чувство самосохранения подсказывает отвести глаза в сторону.
Вот так и поступает современная русская литература с Наталией Черных. И в этом ее положении есть только одна утешительная сторона: когда стареющие «главные», наконец, зазеваются и новая (как всегда наглая) поэтическая генерация прорвется на литературное поле, квалифицируя все приметное на нем как хлам и мусор, у Черных, не запачканной успехом, чуть больше шансов избежать общего удела своих ровесников. (Впрочем, заранее ничего гарантировать нельзя.)
Тем более, что ведь не скажешь, что поэтесса никому не известна. Данная книга – восьмая по счету за 13 лет, да и выходили они там же, где выходили книги тех ее ровесников (и ровесниц), что у всех на слуху: в «Арго-риске», «Русском Гулливере»… А до этого Наталия Черных печаталась и в «Гуманитарном фонде», и в «Вавилоне», и в «Окрестностях». Даже в респектабельном двухтомнике «Современная литература народов России» она есть (а там много кого нет). Следовательно, за всем этим «непризнанием» стоит нечто такое, что требует объяснения.
Общим местом в упоминаниях о стихах Черных является ее православие. На мой взгляд, это характеризует лишь употребление самого этого понятия в языковой практике литературной среды нового поколения, потому что подключение автора к «православному» контексту что «бронзового века» (Кривулин, Шварц, Стратановский, Седакова), что околоцерковной «книжности» (Николаева), что к отчаянно рискованным опытам сконструировать такой контекст сегодня (Круглов) ничего не даст: ее поэзия слишком далека и от ретро-модернистской героики сопротивления, и от, в сущности, внутренне комфортного благолепия, и от трансгрессивных интенций.
Но что же тогда в этой поэзии есть, что так старательно увертывается от критического препарирования?
Во-первых, народность. Рискну употребить это «мертвое» слово с тем, чтобы оспорить мнимое отсутствие его референта. Это, естественно, не демократичность, которая несовместима с «культурными» реалиями (античными или кельтскими). Скорее это что-то связанное с «национальным началом», и об этом нужно сказать подробнее.
Немыслимо представить себе подобное словосочетание в отношении поэта из бывшей (а тем более если не бывшей) империи. Оно своей одиозностью разрушит любой самый доброжелательный разговор. Но в том и дело, что даже беглый взгляд на проблему показывает подмену этого понятия в русском случае чем-то иным, разным в разных обстоятельствах: милитаристски-погромным или ортодоксально-клерикальным, маскарадно-анахроничным или экзотически-фольклорным, барски-благодушным или, наоборот, плебейски-самоутверждающимся. У Черных же мы можем услышать народную интонацию и просодику, очищенные и от идеологических задач, и от примет образовательного или же социального ценза.
Одно дело:
Опять играют два баяна
В весеннем парке на кругу.
И про тебя, мой окаянный,
Опять забыть я не могу.
(Михаил Исаковский, 1961)
Мы не сильно ошибемся, предположив число законченных классов (от 4 до 7), карьерный путь (из доярки или льноводки в неквалифицированные фабричные работницы) и матримониальные перспективы (потенциальные женихи были убиты на войне) героини этого, в каком-то смысле «классического» народного стихотворения. Другое дело:
Всё во мне, Господи, поперек,
милый ты мой уголек,
а согрел,
не позабудь, как согрел,
как сам сгорел.
(цикл Наталии Черных «В дороге и на постое», 2008)
Что мы можем знать из этих строк о героине Черных, кроме того, что для нее интонация причитания органична, тем более что лишена примет просторечия? И того, что, в отличие от первой героини, ей не нужно музыкальное сопровождение, она в должной мере музыкальна сама.
Во-вторых, религиозность. Опять-таки «пустое» определение, что без всякого контекста, что в современном русском контексте. Одно дело:
как снег Господь что есть
и есть что есть снега
когда душа что есть
снега душа и свет
а все вот лишь о том
что те как смерть что есть
что как они и есть
(Геннадий Айги, 1978)
Этот шедевр говорит нам о жесткой позиции автора и по отношению к тому, что он называет «Муляж-Страна» (и что ставит его в один контекст с поэтами Сопротивления от Рене Шара до Чеслава Милоша, только здесь это сопротивление – репрессивному государственному атеизму), и по отношению к тому, что называется «великой русской традицией» (уничтожена не только рифма, но и синтаксис).
Другое дело:
… боль здесь – только боль,
улыбка есть улыбка, а страданье
здесь, в мире, где Христос ходил с людьми,
уже не будет глупым и напрасным.
Здесь каждый с именем – уже как человек:
он видит, слышит, осязает, любит
не только плотью. Он болеет, спит…
(триптих Черных «Лоза, молоко и роза»)
Опять-таки у Черных мы сталкиваемся с «неподключаемостью» ее речи (и ее богословствования, а ему поэтесса не чужда) к какой-либо или прямо сартикулированной, или косвенно находимой на современной полемической карте позиции.
В третьих, реализм. Осознаю, что пользуюсь малоконкретным обозначением неких эстетических практик работы с реальностью, где эта реальность не выступает в излишне сгущенном или превращенном состоянии, в то же время раня читателя материалом или ракурсом.
Одно дело:
На реке непрозрачной
катер невзрачный какой-то,
Пятна слизи какой-то,
презервативы плывущие
Под мостами к заливу
мимо складов, больниц, гаражей
И Орфея-бомжа,
что в проходе к метро пел пронзительно,
Голова полусгнившая.
(Сергей Стратановский, 2003)
Мы видим, как нарастающее сгущение красок в создаваемой на материале реальности картине привело к ее превращению в фантастическую сцену на известный мифологический сюжет.
Другое же дело:
… здесь на квартире, или, считай, на флэту, в этом исконном сарае,
где шестилетние дети глядят как законченные паразиты,
а матери делают вид, что весь бардак вокруг них гармоничен,
в этом еще не закончившемся предвосхищении,
в этом наркопритоне без средств и без кайфа…
(цикл «К Царицынскому парку»)
Ужас происходящего не гиперболизирован, и, возможно, именно это позволяет увидеть некоторые детали, которые было бы не разглядеть, будь рассказ более экспрессивен.
Но мы с некоторым трудом подыскали «чистые» примеры: обычно же все три эти начала переплетены в кажущемся несколько анахроничном, а на деле архаичном рассказе-плаче «от первого лица». Это и есть узнаваемый почерк поэтессы:
я расцветаю тем гибельным цветом, той радостью страшной,
что людям дана перед смертью
……………………………………
Боль – когда тело цепляется за
взгляд, поворот головы, чашку, воду горячую, мыло, одежду.
Всё это канет в простую вселенскую осень,
как в Клязьму (ее берега круты и покрыты монашеством ив
кроткоствольных).
…………………………………….
Предчувствие радости высшей преображает
радость земную. Она расцветает, как не умеет цвести среди плотных
вещей,
она озаряется, светит! Она будто лист, мягкий и теплый, на антраците
асфальта…
(цикл «Детские элегии»)
Остается предположить, что же именно может оказаться «абсолютно современным» (Рембо) в поэзии Черных для читателя следующего (а оно вот-вот «заявится») поколения, чего без этих стихов не было и нет в русской поэзии. И тут не обойтись без «гендерного» ракурса и, одновременно, без напоминания о трюизме: как нет такой реалии феминизм, а есть реалия феминизмы, так нет «женской поэзии», а есть «женские поэзии». И в их контексте мы должны последовательно «срывать» одну за одной инспирированные временем (см. начало статьи) маски: «роковая женщина-поэт (в мужском роде)», «вдова-сестра-мать, оплакивающая павшего мужа-брата-сына», «андрогинная инфантилка, продуцирующая «фиктивное эротическое тело» (Кукулин)», «молодая разгневанная женщина» (Скидан), срывать постольку, поскольку их надевает на автора это самое время.
У Черных же именно здесь – всё абсолютно другое, у нее, как у святого / блаженного Августина, времени нет:
… мы невменяемы здесь,
где вместо времени сыворотка
……………………………….
так что лучше прослыть дураком и сидеть весь остаток жизни
поднадзорным таким глухарем, воплощением тихого смысла…
Сергей Завьялов