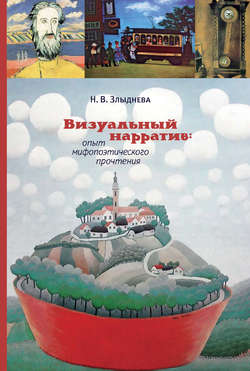Читать книгу Визуальный нарратив: опыт мифопоэтического прочтения - Наталия Злыднева - Страница 7
Часть 1. Мифопоэтическое в визуальном повествовании: русский авангард
Раздел 1. «Язык» и «речь» художественного изображения
Глава 5. Нарратив городской окраины в фотографии Бориса Михайлова: к проблеме модальности изображения
ОглавлениеОборотной стороной визуализации литературы можно считать олитературенное изображение. В числе многообразных видов последнего – редкий вид изобразительного «текста», не восходящего к тексту литературному (имеются в виду все виды иллюстраций и «программная» сюжетная живопись от классической традиции до передвижников) и не содержащего письменные фрагменты в своей композиции (подобно житийной иконе, лубку, портрету эпохи барокко, комиксу, рекламе), однако опирающегося на мотив, оперирующий категориями времени и состояния. Примером может служить фотоальбом «Неоконченная диссертация» работы Бориса Михайлова [Mikhailov 1998]. Впрочем, в этом произведении присутствуют и два названных выше признака – здесь есть и литературно-философские аллюзии/цитаты, и короткие записи-комментарии или просто размышления на полях. Между тем, чреватость данных изображений словом определяют не они, а содержащаяся в фотографиях имплицированная вербальность: она не поддается описанию в дискретных понятиях, но обладает выраженным качеством нарративности и может быть рассмотрена в аспекте модальности. В попытке подобрать ключ к пониманию этого произведения как примера вербализованной визуальности и состоит задача настоящей главы.
Борис Михайлов – один из самых знаменитых ныне живущих фотохудожников на постсоветском пространстве. Он родился в 1938 году на Украине и работал в Харькове, а с 1900-х живет в Германии. Творчество Б. Михайлова имеет огромный успех на Западе: он стал обладателем премии «Хассельблад» – наиболее престижной в области фотографии. Б. Михайлов создает серии фотографий: среди наиболее известных – «Красная серия», «У земли», «Вчерашний бутерброд», «Неоконченная диссертация», «История болезни», «Сюзи и другие». Изображения выступают как парафраз жанра репортажной, документальной фотографии: парафраз, потому что нет событий, и документом как антисобытием выступает обезличенный поток будней. Темой творчества является в основном советская/постсоветская (но также и западная) повседневность, окраины большого города, унылые будни жителя спальных районов, а иногда брутальная телесность с компонентом горькой иронии и социальной критики. Стилистика фотографий основана на принципе редуцированной эстетичности: характерны подражание отбраковке, «некачественной» любительской съемке, «случайная» кадрировка, непостановочность – или, наоборот, превращающаяся в свою противоположность нарочитая постановочность (в сюжетах, где ее меньше всего ожидают), размытый фокус, децентрированность композиции, смещение осей, кривой угол или оптическое искажение поверхности. Изображение и слово часто выступают в единстве: рукописный текст наложен на фотографические изображения как рассказ-комментарий, интимный дневник автора.
О творчестве этого фотомастера много писали. Наиболее продуктивная интерпретация поэтики Михайлова основана на феноменологическом подходе и предложена Е. Петровской [Петровская 2003]. По мнению исследовательницы, художник показал невидимое, которое состоит в передаче времени, а именно советского времени, воспринятого поколением 1960-х годов, и это коллективное бессознательное (т. е. аффект времени, опыт поколения) показано, но не переводится в репрезентацию, поэтому «семиотика ничем не может нам помочь» [Петровская 2010: 30]. Хотя общий подход Е. Петровской представляется внутренне непротиворечивым и продуктивным, а анализ художественной фактуры убедительным, трудно согласиться с тем, что возможности семиотического подхода в данном случае исчерпаны. В данной главе мы попытаемся прочесть творчество Михайлова именно с точки зрения семиотики и знаковой репрезентации, правда, основанной не на статичных бинарных оппозициях, а на признаках состояния в его динамике. Это позволяет и поставить проблему модальности изображения в целом.
Проблема модальности изображения в современной семиотике чаще всего решается в плане отношения изображения к плану действительности, т. е. в аспекте оппозиции истинное/неистинное (см., например, [Chandler]). Примером художественной рефлексии на этот счет могут служить произведения Р. Магритта, в частности, его знаменитая картина «Это не трубка». Между тем, в визуальном нарративе мы сталкиваемся с более сложным уровнем модальности, а именно, с нарративом состояний, с тимическим (т. е. эмоциональным) измерением на нарративном уровне. В отличие от иконического (миметического) описания эмоций (посредством передачи мимики персонажа, экспрессии позы, колорита, ракурсов композиции и пр.), тимическое визуального повествования опирается на градуированную шкалу всех типов противопоставлений/отождествлений в рамках логической семантики. Динамика смены знака и логического модуса и описывает состояние. Схему семиотического описания модальности в нарративе в свое время предложил А. Греймас в своем знаменитом квадрате и созданная им Парижская школа [СС]. Согласно этой школе, «…эмоция связана с микротрансформацией, пусть и на уровне бытия (être), предшествующего макронарративу» [СС: 201]. Теория нарратива Греймаса, разумеется, никогда не прилагалась к материалу изобразительного искусства: ее объектом всегда был вербальный дискурс. Между тем, нам представляется, что применительно к визуальному нарративу эти актантные схемы порождения значения особенно действенны: они позволяют выйти на тот уровень организации художественного изображения как текста, где тимическое состояние представлено как процесс порождения значения. Причем, нарративность опять же понимается как структурный принцип, как синтаксис текста, в котором прослеживаются акты семантических преобразований, а не внешним образом – посредством иконической семантики – передаваемого сюжета. Все эти проблемы важны для понимания творчества Б. Михайлова.
В искусстве Б. Михайлова многое проясняют его истоки. Они вполне очевидны и – по его собственному признанию – восходят к творчеству знаменитого французского фотохудожника А. Картье-Брессона и близки литовской школе фотографии 1960–1970-х годов, в частности, творчеству А. Суткуса и В. Луцкуса, выдвинувших тему непарадной стороны быта, человека в городском окружении [Ридный, Кривенцова 2008]. Но за пределами этих конкретных адресов все не так ясно. Очевидно, что Михайлов оспаривает патетику наследия 1920-х годов, но это оспаривание не отрицает и заимствований. Также и с 1950–1960-ми годами. Оперирующий сугубо фотографическими приемами (например, приемом срезанного кадра, создающим эффект непреднамеренной фиксации событий, т. е. жизни «как она есть»), Михайлов в своем искусстве обнаруживает связь с живописью позднего авангарда (С. Адливанкин, А. Лабас, А. Штеренберг, Г. Рублев) с ее бытовыми темами, неопримитивистской стилистикой, маркированной синтагматикой (любовью к неожиданным ракурсам, смазанным контурам) – и создает ее парафраз. След исторического авангарда (как во всем советском концептуализме) обнаруживается в параллели в живописи и фотографии конца 1920-х годов, однако очевидно и противостояние героической образности эпохи, а также ее подчеркнутой риторичности, акцентировке формы – сшибке масштабов у Б. Игнатовича, остранениям у А. Родченко, палимпсестам Эль Лисицкого. Борис Михайлов – и за, и против первопроходцев XX века: наподобие художника авангарда, он создает открытый «мир на юру», но при этом ему чужд ницшеанский пафос и утопия последнего, свойственна пассивность взгляда. Он создает своего рода антипроект авангарда, и потому «оптимальной проекции» в будущее (выражение А. Флакера [Флакер 2008]) он противопоставляет обращенность внутрь, интимизацию мира, впрочем, наделенного все той же абсурдностью. Такого рода отношение к истокам обнаруживают двойственность позиции художника: налицо одновременно и отрицание, и приятие того, от чего мастер отталкивался. Аналогичная двойственность проявляется на всех уровнях творчества мастера. Она особенно свойственна его «тексту» города.
40. Б. Михайлов. Из альбома «Неоконченная диссертация»
41. Б. Михайлов. Из альбома «Неоконченная диссертация»
Изображения города как такового (имеем в виду в традиционном жанре видовой фотографии) у Бориса Михайлова нет. Город часто выступает фоном – он описывается мотивами повседневности по умолчанию: выступая как маргиналия, в форме мотива окраины, сам являет собой маргиналию кадра. Так, устанавливает прямой изоморфизм плана выражения («документалистская» позиция объектива «у бедра», нарочитая «ошибочность» экспозиции и т. п.) и плана содержания («случайность» кадрирования, «дневниковый» отбор сюжетов, отсутствие/нарочитость постановочности) фотоизображений.
«Неоконченная диссертация» является центральной работой Бориса Михайлова в плане темы городской окраины. Фотоальбом представляет собой книгу, каждый лист которой заполнен одиночными или сдвоенными фотографиями [илл. 40–42]. Фотографии созданы аналоговой камерой и имитируют любительские снимки, проявленные в домашних условиях. Им сопутствуют написанные от руки короткие замечания – текст-комментарий – на полях страниц. Последние весьма разнообразны по широте поднимаемых тем и жанрам: здесь и философские, отмеченные иронией размышления о жизни, цитаты из трудов философов (например, Канта и Беньямина), и саркастические замечания по поводу собственной персоны, и бытовые зарисовки, и еще мн. др. По признанию самого художника, «то была игра в диссертацию, а в диссертации, как известно, можно использовать цитаты из чужих текстов. Некий автор что-то сказал, и вот рядом с цитатой есть изображение, которое можно воспринимать определенным образом, связать цитату с изображением. Все вместе, конечно, – игровое пространство» [Михайлов 2007]. Записи на полях альбома Михайлова, действительно, иногда напоминают полные игровой стихии тексты Хармса, особенно из его «Записок». Это и неслучайно: интерес к маргиналиям быта, элементы «мусорной» поэтики, ирония в письменном слове сближают фотомастера с кругом художников московского концептуализма 1970-х, в частности, с творчеством Ильи Кабакова, а последние часто близки обэриутам, обнаруживая отчасти типологическое схождение с ними, отчасти отражая общественный интерес к этому неофициальному, с большим опозданием вошедшему в советский культурный оборот явлению авангардного наследия.
Важно и то, что тексты написаны от руки, неровными строчками, благодаря чему актуализируется начало телесности как означаемого, отсылающего к частному, речевому, субъектному. Можно было бы, как и в случае с разобранными в предыдущих главах примерами из творчества М. Ларионова и Г. Рублева, сказать, что сочетание записей и фотографий апеллирует к традиции футуристических рукописных книг, к авангардному лубку, к дадаистскому коллажу, если бы не одна особенность этого параллелизма: здесь между изображением и словом образуется особое натяжение смысла, иногда трудно уловимое и во всяком случае не сводимое к простому комментарию. Вербальное и визуальное образуют непересекающиеся пространства, имеющие при этом между собой много общего, в основном по признаку их принадлежности пограничному ментальному состоянию (и/или семиотическому локусу), располагающемуся между сном и явью, между мыслью и делом, между жизнью и бытием. Нарративы Михайлова посвящены унылому безвременью поздней советской эпохи. Остановленное мгновение «случайных» кадров передает состояние не-бытия.
42. Б. Михайлов. Из альбома «Неоконченная диссертация»
Таким образом, в альбоме мы имеем дело с двойным кодом: изображение как знаковая система континуального типа и письменное слово как система дискретная соединены/противопоставлены в едином семантическом поле. Принцип двоичности кода, свойственный организации любого художественного текста, здесь акцентирован.
В вербальных текстах альбома городские реалии почти не упоминаются. Город косвенно представлен преимущественно в фотоизображениях. Он описывается прежде всего в пространственных категориях периферии: окраина, пустырь, свалка, панельный микрорайон; неосвоенное пространство, отграниченное пространство – забор, заросшие бурьяном площади; неуютные дворы с сараями, глухими стенами, отдельно (как гнилые зубы) стоящие дома; пространственным характеристикам соответствуют и атрибуты жилых районов – троллейбус (трамвай), грузовик/экскаватор, тротуар (в лужах); обитатели также наделены качеством периферийности: «случайный» прохожий, немолодые женщины в платках и с сумками, бомжи, толкучка у троллейбуса [илл. 43–45]. Часто городские виды безлюдны: отсутствие жителей обнажает позицию случайного прохожего, обитателя этих мест, скользящего взглядом автоматически. Той же цели служат и фигуры, снятые намеренно нерепрезентативно: со спины фигуры вдалеке и/ или фрагментированно, – например, одни ноги, а также «неумело» в плане экспозиции и т. п. Персонажи в кадре ad hoc демонстрируют не себя, а обезличенную «объективность» фотокамеры, механического регистратора, в поле зрения которого «попадают», но который не наделен человеческой волей отбирать факты. Тем не менее, то, что на первый взгляд выглядит как «неизбирательность», оборачивается сверхтщательным отбором при ближайшем рассмотрении.
43. Б. Михайлов. Из альбома «Неоконченная диссертация»
44. Б. Михайлов. Из альбома «Неоконченная диссертация»
Семантика и синтактика пространства в фотографиях Михайлова образуют сплошной изоморфизм: усеченное пространство фрагментированного кадра соответствует семантике пространства частного, маргинального. Но при этом фрагмент метонимически отсылает к центру как целому – семиосфере советской среды обитания, коллективному бессознательному жителей новостроек. Однако центр артикулирован по принципу отрицания: частное метонимически отсылает к партиципированной целостности. Эффект нарочитой «случайности» кадрировки создает колебательное движение с постоянным смещением фокуса – это и не центр, и не периферия, а градация переходов одного в другое. Время в репрезентации города также обозначено как постоянный сдвиг: чуть раньше и чуть позже настоящего (только что прошедший прохожий или садящиеся в троллейбус будущие пассажиры). Е. Петровская проницательно указывает на эффект запаздывания в фотографиях мастера [Петровская 2010]. К этому можно добавить, что, наряду с запаздыванием, имеет место и момент опережения. Главное – это колебательные движения вдоль оси настоящего, подобные колеблющимся пространственным локусам. Очертания настоящего лишаются фокуса, и контуры предметов в динамике становятся размытыми, как на картинах А. Лабаса, представляющих движение в поезде. Размытое настоящее выступает метафорой безвременья.
45. Б. Михайлов. Из альбома «Неоконченная диссертация»
46. Б. Михайлов. Из альбома «Неоконченная диссертация»
Мерцания пространства/ времени в изображении получают развитие и в параллельном вербальном коде. Маркировано уже само название серии – «Неоконченная диссертация»: традиционной определенности границ письменного текста, обычно отмеченной началом и концом, противостоит неопределенность: это и не начало, и не конец. Акцент сделан на не-конце – разомкнутость текста в будущее приглашает к открытости интерпретаций. Неоконченность вводит мотив длящегося бытия, что соответствует жанру дневника, которому подражают альбомные записи. Похоже, неоконченное стало излюбленным словом Михайлова – на Венецианской биеннале 2007 года он демонстрировал одну из своих новых работ, в заглавии которой фигурирует та же семантика в синонимическом ряду: «Неоконченная книга о незавершенном времени».
47. Б. Михайлов. Из альбома «Неоконченная диссертация»
Предполагаемая множественность прочтений определяется и введением в текст комментариев предиката серое. Слово серое можно считать ключевым для понимания общего смысла «Диссертации». Первая фотография альбома (с изображением фрагмента гаража и двух голых деревьев на фоне обезличенного панельного дома) содержит подпись: «все стало серым» [илл. 46]. Эти слова, отнесенные к изображению, предваряются цитатой из книги В. Беньямина у верхней кромки листа: «Мечта уже больше не открывает голубой дали. Все стало серым. Мечты стали дорогой по направлению к банальности». Метафорическое серое, обращенное к состоянию общества, буквально определяет и визуальный ряд – технику и мотивы. Начавшись со словесной темы серого и пройдя через множество решенных в сером видов городской окраины, альбом заканчивается видами кладбища [илл. 47]. Между начальным серым и конечным кладбищем, словом и изображением – неуютные дворы, заборы, заросшие сорняком городские пустыри, тупики, т. е. все признаки промежуточного пространства/бытия. В той же неконтрастной серой гамме решены и черно-белые фотографии альбома с их размытыми контурами.
Налицо отрицание бинарности. Мастер описывает уход от оппозиции черное/белое как определение этого контраста по признаку его отсутствия, и здесь возникает серое как альтернатива оппозиции. Обосновывая свою непричастность к традиции, Михайлов уравнивает серое с отсутствием света. В беседе с художественными критиками он признался: «Мне было важно, например, серое (здесь и далее выделено мною. – Н. З.), а в классической фотографии важно черно-белое, глубокий тон, в классической фотографии важен свет, который то же самое, что Бог, как у Караваджо, а в моей фотографии нету света, нету солнечного мощного освещения. Это стало эстетическим моментом. <…> “Все стало серым”… потому что не было чего-то особенного. Это было важно… Серое и скучное стало важным элементом, являлось частью той действительности, это было необходимо передать. Эстетика здесь концептуальна» [Ридный, Кривенцова 2008]. Как известно, то, что лишено света, невозможно увидеть, оно лишено и видимости. Настаивая на доминанте серого, мастер акцентирует метафизику невидимого, которое возникает как колебательное движение между полюсами черного и белого, но не сводимо ни к одному из них, равно как и к их смешению. В этом смысле серое эквивалентно не-бытию.
Таким образом, в семантике изображения и слова «Неоконченной диссертации» доминирует градуированность – серое, прозрачное, случайное, отчужденное, окраинное как незавершенное состояние, процесс. В этой сумеречной атмосфере и рождается незаметное, обиходно-автоматизированное, т. е. тривиальное города. В оппозициях видимое/невидимое, центр/периферия, целое/партиципированное, открытое/закрытое, организованное/случайное, динамика/статика, завершенное/незавершенное – акцент сделан на невидимом (прозрачном), открытом, случайном, периферийном, незавершенном, динамичном, случайном, фрагментированном. Все построено на постепенных переходах и описании состояний как более/менее. Т. е. доминирует не черное и не белое, и даже не срединное, а обозначенное по принципу отсутствия явного (относящегося к бинарному противопоставлению) признака. Здесь центр не противопоставлен периферии, равно как и прошедшее – будущему: актуализировано отрицание и логическое противопоставление по градуированной шкале. Речь идет о маркированном состоянии, которое передается как непрерывно длящийся процесс.
Представляется, что систему противопоставлений Михайлова, связанных с репрезентацией городских мотивов, можно описать в понятиях квадрата А. Греймаса, где бинарные основы, из которых складывается главное противопоставление бытие/не-бытие, организованы не только как оппозиции, но и как система противоречий и импликаций. На глубинном уровне между ними образуется зона постепенных переходов. Серое в этих фотографиях не тернарно, а тетрарно, т. е. оно образует не промежуточное звено между черным и белым, как это мыслится в означивании срединности, а вбирает в себя признаки, дополняющие противопоставленность черного и белого – импликацию и отождествление. Вследствие этого рассказ о сером (городе, быте, сознании горожан) можно трактовать как фиксацию динамических процессов-состояний, как визуализованную модальность. Посредством градуированной шкалы описывается рассказ о призрачной действительности, которая располагается в срединной зоне на шкале мерцающих переходов-признаков от бытия к не-бытию.
Еще одна тетрарность возникает во взаимодействии текста и изображения «Диссертации» Михайлова. Текст противопоставлен изображению как дискретное континуированному. Однако область вербального здесь – суждения о бытии сквозь будни, область изображения – скольжение взгляда по поверхности банального повседневности. Возникают противопоставления глубинное/поверхностное, мыслимое/ зримое, погружение/скольжение. Дискретное выступает как принадлежность телесного и событийного (взрыва), а изобразительное распадается на телесное (человеческая фигура в интерьере, часто акцентировано телесное – беременная женщина, ню, вульгарная поза) и внетелесное как городское (пустырь, панельный микрорайон и т. п.). Тем самым, за мотивом города закреплено континуальное, т. е. собственно визуальное. Но при этом он выступает как кажимость, т. е. невидим по существу или активно незрелищен (внесобытийное изображение, за него не зацепляется глаз), и в этом состоит парадокс его визуализации. В нарративе городской окраины акцентированы знаки постепенного угасания во времени; событием является распад пространства, его растворение в неявных, семантически не отмеченных формах, также в отсутствии какого-либо активного действия персонажей.
Несмотря на внешнюю несобытийность представленного, взгляд прикован к изображению, а зритель становится проводником между картинкой и той действительностью, о которой картинка повествует. Михайлов обнажает родовое свойство фотографии, которая, согласно Р. Барту, является «сообщением без кода» [Барт 1997]. Однако в данном случае художник усложняет задачу: лишенное кода визуальное сообщение, вместе с тем, заимствует код у письменного слова, словно меняясь с последним «ролями». Налицо снова четырехчленная модель: рукописное слово осуществляет переход от дискретности письменного знака к нарастанию телесности по признаку следа руки, а изображение городской окраины основано на убывании телесности, на размытом нарративном фокусе. Но при этом изображение реализует и противоположное движение – постепенное смещение от континуального к дискретному, фрагментированному. Слово/тело/город попадают в одну парадигму. Реализуются архетипические смыслы города: город-тело, город-поток (= речь), город как внутреннее. Мотив хаоса, неорганизованности и децентричности восходит к диаволическому городу символистов [Ханзен-Лёве 1999б]. Таким образом, двойной код – вербальный и визуальный – альбома образует взаимные перекрещивания: рукописное/телесное (как дискретное/континуальное) и тело/город (как дискретное/континуальное – в силу его фрагментированности). Рукописное выступает эквивалентом жанра – исповеди-дневника в картинках. Частное и интимно-телесное, в свою очередь, «рифмуются» с мотивом городской окраины как сюжетным стержнем повествования.
Маргинальны персонажи городской маргиналии, маргинальна и точка зрения рассказчика. В фотоальбоме Михайлова повествуется своего рода история ничтожного. Она создана речью персонажа, т. е. субъектом. Субъектная интериоризация города отвечает коммуникативной структуре эго-текста, из которого, однако, подобно тому, как в пространстве описываемого города, извлечено ядро, центр, потому что все повествование дано с точки зрения анонимного рассказчика (адресанта, субъекта), и такая точка зрения совпадает с анонимностью персонажа (адресата, объекта). Некоторые исследователи справедливо говорят о «слипании» художника и объекта фотосъемки [Tupitsyn 1998: 218–220]. Создается эффект «прозрачности» повествования, неопосредованности точкой зрения рассказчика и неконвенциональности системы означающих. Позиция внешнего наблюдателя спроецирована на самого себя, что и создает эффект призрачности. В этой среде прозрачности рассказчик сам обладает сверхпрозрачностью.
Такого рода нарратив наделяет изображение города текучестью: город и присутствует, потому что узнаваем быт, но и ускользает от пристального взгляда, потому что в изображении нет ничего статичного, фронтального, тектоничного. Это эксцентрический город на краю обитания, нарратив отсутствующего места как пространственный эквивалент безвременья. Вспоминаются «ветхие» города Андрея Платонова: «Над домами, над Москвой-рекой и всею окраинной ветхостью города сейчас светила луна» [Платонов 1990: 329]. У Бориса Михайлова возникает оксюморонная отсылка к платоновской поэтике: в категориях ветхости описываются районы новостроек. Его городская окраина предстает как рассказ о внутреннем состоянии субъекта, наделенного ущербностью, неполнотой сознания, психологической недостаточностью, отсутствием телесности или ее гипертрофией. Городской текст Бориса Михайлова выступает двойным отрицанием: противопоставляя себя как утопическому проекту Башни Третьего Интернационала Татлина, так и дистопическому повествованию в романе А. Платонова «Чевенгур», он прокладывает третий путь: не-жизнь и не-смерть Харькова эпохи советского застоя, где жизнь выступает как маркированный член оппозиции.
В «Неоконченной диссертации» Бориса Михайлова город становится пространственной моделью культуры, в которой континуальное и дискретное находятся в непрерывном и напряженном диалоге. Фотоальбом Б. Михайлова «Неоконченная диссертация» представляет, кроме того, интерес как случай построения модели, эксплицирующей семиотический парадокс фотоизображения: фиксируется то, чего больше нет, что оставило свой след. Эго-нарратив городской окраины создает антропоморфный образ призрачного города как метафоры повседневности, поэтому можно говорить o воссоздании в изображениях Михайлова мифологического образа последнего (город как тело), но также и о динамической системе означиваний частного, бренного, в которой непрозрачно только состояние, т. е. модальность.