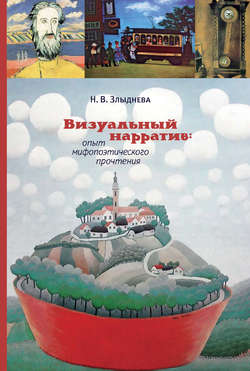Читать книгу Визуальный нарратив: опыт мифопоэтического прочтения - Наталия Злыднева - Страница 9
Часть 1. Мифопоэтическое в визуальном повествовании: русский авангард
Раздел 2. Искусство versus литература
Глава 1. Два «Художника» К. Малевича: стихотворение и картина
ОглавлениеТворчество позднего Малевича отражает важнейшее свойство авангарда «на излете» – присваивать слово, делая его внутренним компонентом изобразительного «текста». Задачей настоящего очерка является описание механизма имплицитной вербальности в живописи позднего авангарда.
Среди различных версий причины заката эпохи авангарда более значимой, нежели часто обсуждаемые социально-политические обстоятельства, представляется версия внутренней исчерпанности феномена. Знаком перехода является новый тип отношения изображения со словом: вербальное покидает область комментария и/или манифеста, проникая в ткань самой изобразительности, т. е. интериоризируясь, в результате чего формируется специфический поставангардный визуальный нарратив. Один из наиболее ярких примеров – творчество позднего К. Малевича, отмеченное переходом от беспредметности супрематизма к экспрессивной фигуративности периода «белых лиц», к автоповторам произведений более раннего периода, крестьянской серии, а также к портретному жанру. В ряду последнего особый интерес представляет проблема имплицированного слова в картине «Художник. Автопортрет» (1933, ГРМ). В поэтическом наследии К. Малевича имеется созданное почти на десятилетие ранее стихотворение «Художник»: авторская датировка (1913) является обычной для позднего Малевича хронологической мистификацией, более вероятную дату предлагает А. С. Шатских: 1920–1922 годы [Малевич 2000: 167]. Сравнительный анализ глубинного «мэсседжа» автопортрета и семантической структуры названного стихотворения представляется продуктивным для выявления внутренней вербальности как данного изображения, так и визуального повествования рубежной эпохи в целом.
Картина «Художник. Автопортрет» 1933 года написана в тот период, когда Малевич отошел от собственно живописи супрематизма, а затем и пространственных архитектонов, и перешел к предметной фигурации [илл. 48]. Художник представил себя на полотне с сохранением портретного сходства, однако в «маскарадном» обличии – в типологически обобщенном костюме живописца итальянского Возрождения. Погрудное изображение с головой, развернутой в трехчетвертном развороте, и исполненный патетики жест правой руки обладают выраженной семантико-стилистической гетерогенностью. Зоны традиционного для истории европейского искусства, начиная с эпохи Высокого Возрождения, миметического живописного стиля – «натурных» лица, рук и одежды, смешанного колорита и трехмерной глубины «кадра» – противостоят зонам, хранящим память о недавнем супрематическом эксперименте. О последнем сигнализирует открытый цвет (красный берет, красная с белым рубашка, черный верх камзола, красные полоски на рукавах) и акцентированная двухмерность, условность изображения. Композиция построена по законам классической архитектоники и пронизана строгим ритмом: зрительно утяжеленная и отмеченная вертикалью-колонной нижняя часть противопоставлена облегченной горизонтали верхней части (классический принцип дорического ордера), что в сочетании с точкой зрения снизу вверх придает изображению подчеркнутую монументальность. Хотя фон отсутствует, композиция принадлежит к типу построений с низким горизонтом, повышающих статус представленного персонажа/события и тем самым задающих героическую интонацию. Можно согласиться с американской исследовательницей А. Кацнельсон, которая в своем рассмотрении «Автопортрета» Малевича указывает на иносказательный пласт смысла – тему вождя, которую автор намеревался скрыть от цензуры [Katsnelson 2006]. Аналогичный тип композиции мы встречаем в поздней крестьянской серии художника – в полных трагической экспрессии бородатых персонажах на фоне удаленного пейзажа.
48. К. Малевич. Художник. Автопортрет. 1933
По жанру «Автопортрет» Малевича принадлежит к типу визуальных эго-текстов наподобие эго-текстов литературных, где автор и рассказчик совпадают [Михеев 2007]. В известной мере эго-проекция характеризует жанр автопортрета как таковой, а с другой стороны, соответствует автореферентности авангардной поэтики. О приверженности мастеров живописи авангарда автопортрету свидетельствует его широкое распространение в 1910–1920-е годы и разнообразие форм, которые он принимал. Среди видных мастеров первой трети XX века, которые отдали дань автопортрету, – Кандинский, Татлин, Филонов, Шевченко, Гончарова, Петров-Водкин, Шагал, Лентулов, Матюшин, Розанова, и это еще далеко не весь список. Известны и шаржированные автопортреты мастеров пера – рисунки Хлебникова, Ремизова, Маяковского, Хармса; среди них и Ю. М. Лотман [илл. 49]. Можно рассматривать автопортрет и в контексте принципа персонального повествования в русской литературе [Ковач 1994]: он распространяется на изображение вещей, выступающих явными или скрытыми метафорами лица художника: так, «Автопортрет» В. Милиоти (1920–1922) имеет вид элегантной вазы с цветами, а свой этюд «Сарайчик» М. Ларионов (начало 1900-х) сам называл своим портретом [илл. 50].
49. Ю. М. Лотман Автопортрет-шарж. Архив.
50. М. Ларионов. Сарайчик. Начало 1900-х
51. И. Клюн. Автопортрет с пилой. 1914
К этому же типу «безлицых» автопортретов можно добавить и беспредметную композицию И. Клюна «Автопортрет с пилой» (1914). [илл. 51] В ряду названной галереи «Автопортрет» Малевича 1933 года выделяется своей игровой природой, игрой кодов и интертекстов, в которых подобие и маска соединены друг с другом отношением двойной референции (изображение отсылает к действительности и в то же время репрезентирует само себя, являясь аналогом автонимической речи), а визуальное содержит в себе элемент вербализации. Зрителю предложено считывать значения наподобие того, как разгадывается эмблема.
Рассматриваемому произведению в творчестве мастера предшествует целый ряд автопортретов, каждый из которых являлся квинтэссенцией того или иного этапа развития творческого «Я» художника. Наиболее ранний – автопортретное изображение в эскизе фресковой живописи 1907 года, затем «Автопортреты» 1908 и 1910–1911 годов подытоживают период, в который мастер разрабатывал стилистику модерна и импрессионизма [илл. 52]. Своим портретом Малевич называл «Черный квадрат» 1915 года, который иногда служил и подписью художника на полотнах 1920-х годов [илл. 53]. К этому же жанру отнесен в названии и супрематический «Автопортрет в двух измерениях» 1915 года. Картина 1933 года появляется как часть обширной портретной галереи в позднем творчестве мастера (1928–1933): «Мужского портрета (Н. Н. Пунина)», «Портрета дочери художника Уны», «Женского портрета», «Тройного портрета», а также «Портрета В. А. Павлова». За исключением последнего, решенного в духе раннего соцреализма, все остальные портреты отмечены единством плана выражения, которое состоит в сочетании стилизованного историзма с элементами супрематизма. «Автопортрет» выделяется из всех остальных суггестивностью коммуникативного акта: он апеллирует сразу ко всем предыдущим автопортретам мастера, автопортрету как жанру истории новоевропейского искусств, наконец, к типу эго-текста культуры с акцентированной фатической функцией.
52. К. Малевич. Автопортрет. 1908
53. К. Малевич. Работница. 1933
Программная поэтика изображения указывает на метанарративность: рассказ художника о себе строится как вложенные друг в друга повествования с каскадной негативной идентификацией (наложением нескольких точек зрения рассказчика/зрителя). Имеет место переплетение цитат и различных уровней идентификаций: лицо автопортретно, но исторически стилизованный костюм художника, поза, характерная для портретов итальянского кватроченто, и акцентированный жест руки переводят идентификацию по портретному сходству в план игры, маскарада. Карнавализация образа и ироническое остранение композиции подчеркнуто и метаинверсией: опущенная вниз левая рука в соответствии с традицией автопортретов в классическом искусстве указывает на то, что зритель видит в действительности правую руку, в которой автор держит кисть, в зеркальном отображении.
Супрематический компонент изображения – это знак-индекс творческого пути мастера. Знак истории искусства в форме цитаты ренессансной стилистики [илл. 54] и знак истории жизни индивида (тоже цитата), в большое время вписанной, зеркально противопоставлены, но идентифицированы по признаку «Личность в истории». Рассказ о творческом «Я» автора в контексте большого времени истории зрителю предложено осознать как эфемерность видимого. Возникает эффект так называемой «лицовости» (Делез – Подорога), когда изобразительная метанаррация описывает себя как риторическое послание. Исполненный патетики жест правой руки переводит ироническую цитатность в ряд прямой коммуникации: «Я говорю». Напрашивается аналогия с «самообоживанием» в автопортрете Хлебникова [Лощилов 1998]. Значимость жеста руки в портретах позднего Малевича – важная риторическая составляющая изображения. На фоне метатекстуальной игры он означает и «артефактную» природу произведения, и его возведение в ранг дела как ритуала. Неслучайно этот жест иногда относят к иконографии Спасителя. В свете значимости руки как метонимии человека творческого следует также принять во внимание и лютеранскую составляющую «Автопортрета» Малевича: портрет сравнивался с «Автопортретом» Дюрера [илл. 55], а также близкого к кругу розенкрейцеров английского алхимика начала XVII века Роберта Фладда [Мельников 2007] [илл. 56].
54. С. Ботичелли. Портрет мужчины с медалью Козимо Медичи Старшего (Автопортрет?). 1474
«Лицовость» автопортрета как отрицание значимости видимого соответствует понятиям безликости и безо́бразности, которые занимают в теории Малевича важнейшее место. В живописи позднего периода концепт безликости нашел выражение в серии портретов с пустыми лицами 1928–1932 годов. «Автопортрет», очевидно, следует считать следующей ступенью развития этого концепта, когда лик автора возникает как ложная идентификация, видимость, как своего рода визуальная ризома, в то время как существенно то невидимое, что стоит за ликом. Тем самым, произведение несет в себе главные признаки семиотики жанра в целом (об идеальном через индивидуальное в портрете см.: [Лотман 2002: 349–375]).
Условность зримого акцентирована и подписью художника в виде иконического знака – черного квадрата в левом нижнем углу полотна. Как известно, в поздний период своего творчества Малевич имел обыкновение удостоверять свое авторство таким своего рода индивидуальным символом копирайта: существует около шести полотен, «подписанных» так. Идущий из времени Возрождения и барокко принцип сигнатуры в составе изображения в данном случае столь же полисемантичен, как и сам изобразительный рассказ: конечная идентификация в форме автоцитаты запускает механизм трансформаций смыслов и высвобождения беспредметности сообщения из предметной формы. Перед нами, таким образом, автопортрет с анафорически усиленной двойной идентификацией.
55. А. Дюрер. Автопортрет. 1500.
56. Портрет Роберта Фладда. Гравюра 17 века.
Зрителю предложено моделировать рассказ от лица автора о месте выдающейся личности в истории искусства, однако этот рассказ подвергается постоянному ироническому остранению, в результате которого позиция зрителя вытесняет позицию нарратора. На месте зримого – эго-текст автора как риторический поступок и имплицированное слово в форме взаимосоотнесенностей лица – руки – подписи. Выстраивается следующая последовательность идентификаций: портретное сходство с автором индексирует я-тело, затем исторический костюм приводит в движение идентификацию на аксиологической оси по признаку «ренессансная личность»; карнавальность (ярмарочная фотография в отверстии картонной декорации-манекена) оспаривает первичную идентификацию; жест руки приводит в движение механизм фатической функции, отсылая зрителя к статьям и манифестам автора (имплицированный вербальный комментарий) и направляет его взгляд к супрематическому компоненту костюма; последний, в свою очередь, оспаривает идентификацию исторической традиции, образуя значимый зазор между традицией и авангардным прорывом, чем акцентируется его значимость; заключительный этап – сигнатура в виде черного квадрата переводит все изображение в целом в метанарративную конструкцию. Наконец, двойное название – «Художник. Автопортрет» – читается в русле колебательного движения нарратива от рассказчика к читателю/зрителю и обратно (как палиндром), чему вторит каскадно-ступенчатый процесс идентификаций с последовательной отменой каждого предыдущего этапа.
* * *
Теперь перейдем к стихотворению. Известно, что к слову Малевич относился как к своего рода изображению. «Мы, – пишет Казимир Малевич в письме к М. Матюшину в 1916 году, – вырываем букву из строки, из одного направления, и даем ей возможность свободного движения. (Строки нужны миру чиновников и домашней переписки.) Следовательно, мы приходим к 3-му положению, т. е. распределению буквенных звуковых масс в пространстве подобно живописному супрематизму».
Известны и собственно художественные литературные произведения мастера. Тексты Малевича опубликованы и изучены, однако его поэзия до последнего времени редко становилась предметом научного обсуждения. Между тем, поэтическое творчество художника представляет большой интерес для судеб искусства. Например, созданные Малевичем в 1914 году стихотворения в виде рамок со словами – «мусорные бумажки» – являются прямым предвосхищением альбомов Ильи Кабакова и московского концептуализма 70-х годов. Поэзия Малевича, кроме того, может прочитываться как параллельный текст, служащий дешифровке проекта Малевича в живописи (в отличие от его сравнительно хорошо изученных теоретических статей – на имплицитном уровне, т. е. на уровне принципов поэтики), в частности, применительно к позднему, фигуративному периоду в творчестве мастера, который все еще остается открытым для интерпретаций. В период «авангарда на излете» рассказ о живописи (= опыте авангарда) в поэзии перекидывает объяснительный мост к вербальному внутреннему компоненту самого изображения.
В сравнении с картиной в стихотворении «Художник», нарративная панорама разворачивается в направлении обратного развертывания. Стихотворение написано свободным стихом с выделением строк графикой и с трехчастной (сонетной) кольцевой структурой (тема «художник и мир» прерывается темой «художник в истории», а затем снова возвращается), и общей ритмической организацией мотивного ряда. Частотно выделены слова мир (вещей, бесконечный, скрытый, меняющийся, на грани) – 11 раз, художник (в синонимическом ряду – открыватель, индивидуальность, протестантский, счастливцы) – 12 раз, и относящиеся к семантике зрения лексемы (созерцать, смотреть, глазами, видеть / не видеть и др.) – 18 раз. Среди других лексем-концептов значимы тайна, завеса, грань, а также семантическое поле речи (говорить, рассказывать, слово). В организации риторической структуры выделяются параллелизмы и амплификации при почти полном отсутствии тропов. Последнее сближает стихотворение со статьями Малевича на темы теории прибавочного элемента (стихотворение написано в тот период, когда художник работал над данной теорией).
Формально частотный лексический анализ стихотворения приводит к выводу, что квинтэссенция смысла текста может быть выражена палиндромной конструкцией «художник видит мир» как «мир видит художника». При этом акцентировка пограничья, эксплицированного словами завеса, грань, открытие, тайна, запускает механизм инверсирования. Т. е. речь идет о зеркале, в которое смотрится художник, рассказывающий о мире, в то время как последний, в свою очередь, является отражением вглядывающегося в него художника. Авторский поэтический контекст такого рода указанный акцент поддерживает: с одной стороны, вспомним стихотворение Малевича «Мы разграничили, Мы грань Новой Культуры Искусства» (1918), а с другой – последний манифест Малевича – «Супрематическое зеркало» 1923 года (т. е. времени написания рассматриваемого произведения), сводящий мир к нулю. Зеркало выступает знаком центрально-осевой симметрии, а грань – агентом безграничности. Такая инверсивно-центричная схема позволяет рассматривать данное стихотворение как вербальную проекцию живописного эго-текста мастера. Следует, однако, обратить внимание на то, что в противоположность изображению, построенному на основе рассказа о себе и истории с постоянной меной точек зрения и игрой истинных/ложных идентификаций, что вовлекает зрителя в активное конструирование собственной версии повествования, вербальный текст, напротив, ориентирован на зрительный код. Изображение и стихотворение зеркально отражают друг друга, медиально трансформируясь в свою противоположность (изображение риторически репрезентирует слово, в то время как в стихотворении доминирует зрительное начало).
Есть между ними и зона взаимного наложения. Так, авангардный художник, как открыватель нового, назван в стихотворении протестантом, а картина, как уже говорилось, изобилует цитатами из лютеранских визуальных «текстов», отсылая к «Автопортрету» А. Дюрера и портрету Р. Фладда. Неслучайно риторической патетике картины Малевича вторит его стихотворение «Идите по стопам моим / говорит каждый вождь» (1924). Множественности точек зрения нарративного «мэсседжа» картины соответствует открытая риторически-вопросная концовка стихотворения. Наконец, общий пафос текста с его идеей исключительности индивидуального подвига художника соответствует теме картины, которая обращена к идее значимости личности мастера в искусстве Возрождения и кульминировала в подвиге супрематизма как одного из самых радикальных событий в истории искусства.
Смесь пафоса с иронией в «Автопортрете» с его карнавальной идентификацией и внутренней, как бы вывернутой наизнанку позицией рассказчика заставляет вспомнить многочисленные этимологии имени Казимир. В некоторых из них акцентируется акт речи: кажи миру (этимология А. С. Шатских, возводящая польское имя художника к общеславянскому корню каз-, «казать» и «мир» [Малевич 2000а: 21], хотя точнее было бы возводить к польскому kazać ‘проповедовать’). В других во главу угла ставится негативная топика «Черного квадрата» (имею в виду этимологию В. Хлебникова «казни мир», кстати, находящаяся в некотором соответствии с польским kazić ‘портить, повреждать’. Эта хлебниковская этимология в значительной мере легла в основу глубинной семантики стихотворения Д. Хармса «На смерть Казимира Малевича» [Злыднева 2008а: 252–262]). Наша интерпретация нарративной природы картины Малевича позволяет выдвинуть и третью этимологию: «кажи мир» как мир напоказ, «мир кажимостей», т. е. утверждение фикции зримого в противовес достоверности Логоса. Учитывая, что Малевич вслед за высоко ценимым им А. Крученых выдвигает звуковой образ слова на первый план – «слуховой план», а по-польски имя звучит с выделением корня «кажи» – Kazimierz, не исключено, что именно такого рода народная этимология могла лечь в основу имплицитной вербальности «Автопортрета».
Малевичу принадлежит заслуга выведения живописи и изобразительности вообще за грань логоцентризма европейской культуры. Этим он велик. Однако парадоксальным образом именно к Логосу он и апеллирует в своем живописном завещании. Каскадная идентификация, где каждый последующий член отменяет предыдущий, акцент на метанарративе, введение позиции зрителя-читателя – это основы новой, поставангардной фигурации в живописи и знак конца исторического авангарда.