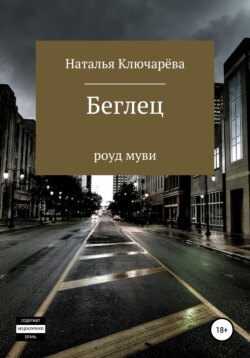Читать книгу Беглец - Наталья Львовна Ключарёва - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
10.
ОглавлениеОна закончила и несколько мучительных секунд продолжала пялиться в телефон, не в силах перевести взгляд на своих так называемых зрителей. Но потом совершила над собой привычное насилие (люди говорят – «сделала над собой усилие», но так-то правдивее) – и посмотрела.
Тощий сидел, скрючившись, на самом краю провалившейся посередине скамейки и смотрел в пространство. Было видно, что его несуразному длинному телу очень неудобно. Но он не замечает этого.
Противный, наоборот, устроился со всеми удобствами. И ровно посередине. И лавочку выбрал единственную целую. И расселся так, что, казалось, занимал собой весь ряд. Расставил ноги, упёрся в землю, транслируя в окружающий мир уверенность и расслабленность. Смаковал выклянченный у неё кефир с таким видом, будто это коньяк двадцатилетней выдержки. И смотрел. Этим своим прямым спокойным взглядом, от которого она тут же начинала беситься, потому что сама не умела ни смотреть так, ни выдерживать такие взгляды.
Беситься и чувствовать себя полной дурой. Вот и сейчас ей в голову, как самогон, ударило ощущение тотального идиотизма всего происходящего. Вот она, человек с тремя высшими, тяжёлой депрессией и чёрной дырой на месте личной жизни, стоит на деревянной сцене-ракушке в безымянной среднестатистической деревне и читает – боже мой! – стендап двум случайным попутчикам – один другого дурнее! – от которых почему-то уже второй день не может отвязаться.
Это, правда, она? Это с ней происходит? Не в тупом кино, а в реальности? Видели бы коллеги…
Она представила этих отутюженных мажоров в пиджаках с модными заплатами на локтях – и неожиданно рассмеялась. Забыла уже, конечно, как это делается. Поэтому вышло хрипло и жалко. Да и фиг с ним.
«Надо будет Сандре рассказать, тоже поржёт», – подумала она по привычке.
И тут же провалилась в чёрную дыру.
Ничего и никогда она уже не расскажет Сандре. Ни прикольного, ни горького, ни бесстыдно интимного, о чём никому раньше. И никому больше.
Интересно, смеётся ли та в своей новой жизни? Или только плачет и кается? Вспоминает – или ей провели лоботомию, не давая спать и есть, изгоняя бесов памяти молитвой и постом.
Бессильная злость сдавила горло, мешая дышать.
Она даже обрадовалась, когда противный заговорил. Всё лучше того, что внутри.
– Хотя бы одного человека рассмешила. Уже успех. Ты спрашиваешь, в чём твоя проблема. Могу ответить. Проблема в том, что ты думаешь, будто с тобой что-то делают. Я или еще кто. Или жизнь. А на самом деле ты всё делаешь сама. Ты не шарик для пинг-понга. Ты принимаешь решения. И несёшь за них ответственность. А ты всё время хочешь переложить эту ответственность на кого-то другого.
Ну, конечно, это она решила остаться без Сандры и всю жизнь загибаться от тоски. Надо пошутить. Срочно пошутить. Хотя бы несмешно.
– Ты в прошлой жизни, ну, до того, как пойти странствовать по Руси и бить стёкла, психологом работал?
– Да не. Просто я людей знаю. И люблю. В отличие от тебя.
Она задохнулась от возмущения (зато отвлеклась), но не успела ничего сказать, даже придумать.
– Чё ты тут стоишь, как хер на именинах! – завопил пронзительный женский голос за тополями, окружавшими сцену. – Козел он и есть козел! Я его бегаю, ищу по всей деревне, а он тут балаган смотрит. Вот я тебя щас! А ну марш домой, скотина рогатая!
Противный загоготал.
– Там у нее, правда, козел. Настоящий. А я думал, она с мужем так.
Она спрыгнула со сцены и увидела, как женщина в шубе, из-под которой торчат белые ноги с лиловым варикозом, охаживает берёзовой веткой грязно-белого козла, стоящего по грудь в зарослях крапивы. Выглядело это так, будто она парит его в бане. Козел недовольно тряс бородой, когда удары начинали слишком досаждать, и не двигался с места.
– Пошел, пошел. Идолище поганое! Видишь, кончилось представление. Все уходят.
Она присела на скамейку возле противного. Хотела подальше, но все остальные были сломаны.
– Зрители не хотят расходиться, – подмигнул он. – Однозначно успех.
Он откровенно стебался, но ей почему-то стало приятно. Бред какой-то.
– Так ты, правда, катаешься в поисках смешного для стендапов?
– Ну. Скорее, от депрессии спасаюсь. А это – так… пробую все средства.
– Вообще не понимаю, что такое депрессия.
Противный пожал плечами, и она уже приготовилась услышать обычное в таких случаях продолжение: «По-моему это просто неумение взять себя в руки» или ещё какую-нибудь фигню. Но тут тощий неожиданно обернулся, чуть не навернувшись со сломанной скамьи, и произнёс этим своим проникновенным голосом, от которого все мгновенно тают, как мороженое, особенно одинокие тетки за сорок:
– Тебе очень повезло, брат. Очень.
Противный даже отшатнулся. Но через секунду снова был спокоен, как удав.
– Да я знаю. Я вообще везучий.
Потом повернулся к ней и снова подмигнул.
– Про козла-то расскажешь? Хер на именинах, надо же. Никогда такого не слышал. «Зрители на стендапах бывают разные. Иногда козлы»… Звать-то тебя как, комик-гёрл?
– Сандра, – не задумываясь, выпалила она, и всё внутри обварилось кипятком.
Блин, зачем! Чтобы умирать каждый раз, когда к ней обратятся?
Но не говорить же теперь: «Ой, извините, я ошиблась».
Она уже и так израсходовала месячную дозу идиотизма.
– Сандра, – повторил противный, и она дёрнулась.
Хорошенькую пытку себе придумала. Можно мастер-классы давать по самоинквизиции.
Невыносимо. Но это бедное имя, которое Сандра, уходя, бросила вместе с кучей ненужных теперь вещей, разноцветных носков и клоунских шапок, бедное бесхозное имя как будто само выскочило из небытия и прыгнуло на язык. Не спрашивая разрешения.
Сандра тоже никогда не спрашивала. А теперь ей ни сесть, ни встать нельзя без спроса.
– Александра, значит. Мы с тобой тезки. Я тоже Александр. А ты?
– Я Егор, – с готовностью ответил тощий, протягивая противному костлявую, как у Кащея, руку.
Она вдруг подумала, что он носит всё такое тяжёлое – косуху и берцы – чтоб его не сдуло ветром.
И некстати вспомнила экскурсию в монастыре, в котором потом встретила Сандру. Ее саму туда занесло в рамках все той же борьбы с депрессией.
Женщина с постным лицом, оживлявшемся только на словах «отечество» и «враги», показывала паломникам вериги какого-то старца. Железяки общим весом в сто кило.
«А зачем он это всё на себя надевал? – спросил мальчишка из толпы. – Тяжело же».
Экскурсоводша поджала белые губы и опять зашелестела про «отечество в опасности, кругом враги». Видимо, в ее бортовой компьютер вмонтировали только один трек.
И вот сейчас, глядя на тощего в косухе, она вдруг придумала, как можно было бы ответить тому мальчишке. Зачем вериги? Чтоб ветром не унесло. Старец-то был, поди, вроде этого парня – кости да глаза.
– Егор, – усмехнулся противный. – В честь Летова что ли?
– Не, в честь прадеда.
– Прадеда-героя, который воевал?
Он кивнул на облупившегося серебряного солдата, стоявшего наискосок от сцены в окружении казенных голубых елей.
– Он был на фронте, да. Но под танки ложился не с гранатой, а исключительно с разводным ключом. Механик, золотые руки. За всю войну никого не убил, к счастью. То есть для него это несчастье, конечно, было. Стыд большой. А я рад.
– Пацифист?
– Да, я против насилия.
– А ты, вообще, кто, Егор? «Кто ты по жизни», как нам гопники в подворотнях говорили. Музыкант?
– Почти. Я поэт.
– Поэт? Понятно. Прочитаешь что-нибудь?
Противный показал подбородком на сцену. Он и её так же отправил выступать, когда она заикнулась, что пишет стендапы. И она почему-то послушалась. Тощий Егор тоже покорно вскарабкался на подмостки, сгорбился и задумался, потирая лоб – причём так сильно, что между бровями порозовело.
– Я вам, пожалуй, про Куинджи расскажу. Знаете, он был невероятно добрым человеком. Всем помогал. Если находил бабочку без крыла, то приклеивал ей бумажное. И старался не ходить по траве, чтоб не вытоптать. Ну, и людям помогал всегда, разумеется.
Егор замолчал, продолжая протирать во лбу дырку для третьего глаза.
– А стихи? – осторожно напомнил Александр.
– Да-да, конечно, – вскинулся поэт, с таким растерянным видом, будто только что проснулся и обнаружил себя на сцене-ракушке посреди незнакомой деревни.
Он откашлялся и вдруг запел. Голос у этого двухметрового существа оказался, как у пятилетней девочки. Говорил-то он обычно, правда, с очень странными интонациями, а пел – будто вообще другой человек.