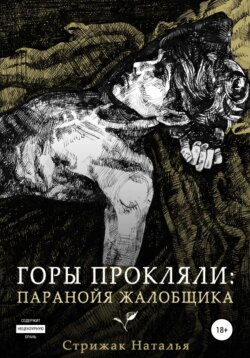Читать книгу Горы Прокляли: Паранойя Жалобщика - Наталья Петровна Стрижак - Страница 4
2. Жажда остроты
Оглавление«Вся моя жизнь лежит позади меня. Я вижу ее всю целиком, ее очертания и вялые движения, которые привели меня сюда. Что тут скажешь – партия проиграна, вот и все. Три года назад я торжественно явился в Бувиль. Проиграл первый тур. Захотел сыграть второй – проиграл второй и проиграл партию. И при этом узнал, что проигрыш неизбежен всегда. Только подонки думают, что выиграли. Отныне, я буду жить как живой мертвец. Есть, спать. Спать, есть. Существовать вяло, покорно, как деревья, как лужа, как красное сиденье трамвая.»
Жан-Поль Сартр «Тошнота. Рассказы» (сборник).
Паша старался погромче хлопнуть дверью. Но все равно никто не проснулся. И его мимолетный порыв до самого разгара побега оказался раздражительно неудовлетворенным поэтому.
Страна показалась дорожкой через парк, когда он пересекал ее по диагонали. И буря давно уже улеглась серым пеплом. А далее, как казалось, – лишь свобода и бесконечные надежды обрести душевный покой. Люди, люди, везде толпы людей. Мозг уже устал приглядываться к ним и анализировать… Все так мимолетно, не ценно, пусто. Как и здесь, так и там. И существование все дальше стремительно теряло наполнение и смысл.
Когда Паша бежал впервые, все эти люди были ему так интересны, эти поцарапанные полки поездов, пробитые билеты, деревья у краю дороги. Казалось, что он познает что-то новое, обновляется, совершенствуется, но это прекратилось. Он снова застыл. Пускай и верил, что сможет быть здесь другим, таким, которым хочет быть, таким, каким уже не мог быть там, в Харькове.
Все невольно стекалось в одно русло и изводящий стук рельсов, что так въедался в мозг за двенадцать часов езды… Неужели здесь реально уснуть?!
Девушки, парни… Ничего не приносило ощущения свежести, ничто не способно было наполнить. Внутри все застыло, закаменело. И сколько это продолжалось? Пока его сердце снова не взорвалось острым желанием и жгучей болью. А ведь он думал, что всё забылось, что все потухло. А ведь он смеялся над своими ребяческими порывами, от которых зудело все его нутро.
Нет, оказалось, ничего не прошло. Странное ощущение чего-то, намертво приросшего к его нутру, заставило снова верить в судьбу, желать столкнуться с этим дивным существом ненароком еще раз. И уже не на улице, мимолетным взглядом, что не способен насытить, и не в объятиях сестры. Это доставляло лишь горечь.
Парень сам не знает, когда впервые встретил то создание? Может, на улице, в обществе громкой компании. Лет пять так назад. Или… еще раньше. Десять лет назад. Пятнадцать… Вечность? Все это лишь муторный сон. Всепоглощающий сон, что не отпускает уже который год.
Вот он сбежал. Павел не впервые приезжал в Гриньков на дачу. Помогал тете Люде по огороду, пока еще ходил в средние классы. Ломал ограждения со шпаной на Ивана Купала, и зажигал вонючую вежу из шин. Здесь он впервые и закурил, и выпил, и влюбился. Еще в классе так седьмом. В смугленькую девочку с большими черными глазами. Она была такой заводной, что никогда не оставалась вне компании своих затейнических дружков. Она выдумывала разные пакости да развлечения – была королевой в том крохотном мирке, где для их беззаботной юности было так просторно и уютно…
Потом ему стукнуло девятнадцать. Та девочка уже выскочила замуж и родила. А он ворвался во «взрослость». Судорожно хватался за работу, томился в общежитиях, доказывал свою правоту, независимость всем и вся! Хорошие девочки не обделял его вниманием, а он любил их ласку и хрупкость. Любил, но… Страдать его заставила ни ласка, ни хрупкость, ни даже пластичная утонченность женских тел. Это было непонятным открытием. Острый подбородок и крепкая шея вызывали щекотливый холодок на его щеках. И жжение. И зной. Все разом. Изогнутая линия его спины и плеч. Обкусанные пластинки его ногтей.
Пашу тянуло. Тянуло туда, где тот особенный человек с сестрой, тянуло в места, где он мог пить и веселиться, где его не частая улыбка была по-настоящему искренней. Где он был смелым и безрассудным. Где была видно и его упрямство, и уязвимость. Где он терял обладание, ломал границы своей морали, где доходил до самого края.
Слишком быстро прогрессировали чувства. Из интереса – в горячую пену притяжения. Достаточно, чтоб все запутать. Заставить испугаться себя и отречься. Закрыть все жалюзи. До полной душевной глухоты. И вот все началось. Он долго зрел в этих метаниях и теперь, кажется, он точно знает, как поступит с этой мучительной болезнью.
Но что же такого особенного он видел в том существе? Неужели он чувствовал ту тонкую призрачную связь? Вряд ли всё появилось от родства: – те предвздохи, когда оно улыбалось, полные чего-то неопределенного до краев. Глаза, лишенные искреннего блеска. Эластичность плоти да складки джинсовой ткани на коленях, – вот, что рождало все те вспышки зуда и глухой боли.
Да что за чушь? Все мы люди – куски ткани одной формулы и структуры. Так почему именно это тело? Источает такой запах, смотрит так, и так смеется? Но разве так важно, как расположены во рту зубы и как слеплен нос? Растут ли волосы на груди или нет? И подавно – какую тряпку накинул на плечи!
Но юный Паша не знал, что в каждом человеке встроен загадочный механизм любви, который у каждого срабатывает по-разному, который иногда играет злую шутку вместе с человеческой судьбой. Он не догадывался, что и с ним сыграет. Что сыграет и со мной.
*
Прежде, чем привычная мелодия, что за года стала так четко ассоциироваться с холодом да мигренью, проскользнула наконец в мое сознание, я уже вскочил на ноги. Глаза тут же залил липкий мрак, тогда я, пьяно покачнувшись и бухнулся обратно на кровать, да принялся усердно тереть слипшиеся от муторного сна веки. Пробиравшийся с улицы во внутрь свет заполнял комнату прозрачной свежестью. Я пытался привести себя в чувство. Собрать не вязавшиеся мысли в комок. А приткнувшись к окну, я, вмиг очистившийся от щекотливой мари прошедшего сна, уставился в кусок выбеленного рассветом неба, не зажженного еще солнцем. Небо с колебанием смотрело на меня в ответ. Оно было кобальтово-лазурным, с бледными отблесками утра.
Вдруг во мне задрожало нервное возбуждение. Затопленные сонной прохладой рассвета улицы, стелились далеко внизу и казались такими чужими и холодными, что я не мог представить себе, как сызнова спускаюсь и сливаюсь с ними в одну серо-бежевую полосу марудной рутины. В голове завязывались ростки мыслей. Я вспоминал о прошлом вечере, будто бы спокойном уютном ужине, пусть и без свечей. О тёплой беседе, постигшей может быть и счастье, но не чувствовал ни толики покоя в них – в этих «утешительных» мыслях.
Сегодня у меня экзамен. Уже последний. И я думал, запрыгивая в холодные джинсы, о том, что вот, еще немного, и вырвусь, наконец, из состояния зависимого от родных, неудовлетворенного своим существованием создания, как вынырнул бы из холодного моря, что утаскивало меня в свои беспросветные глубины. Но ничто не хотело предзнаменовывать мне это. Ни мигающий все новыми сообщениями телефон, ни отсутствие чистой футболки в шкафу, ни огорчающе тусклый вид в зеркале – ничего. Даже горящий на щеке нюдовой помадой поцелуй.
Если честно, то я и вправду верил в эти утверждения. Верил, словно в истинное настоящее. Верил, что всего-то нужно выпуститься, чтобы решиться. Обрезать все абордажные канаты, отмахнуться от жизни и броситься в нее безобразным прыжком. И будет совсем не совестно, вот так взять и бросить все, очистить список контактов, чтобы наверняка. Или полностью, или никак. А ведь я вероломно себя обманываю, заведомо зная, что грезы останутся грезами в облике цветастого танца перед глазами. Под громкую музыку, вперемешку из горечью во рту. Как это и было прежде. Когда я был до одури влюблен. И так же глупо верил, что навечно, что остро и жгуче. Когда думал, что схожу с ума от блаженства, а вместо этого лишь медленно и безвозвратно подходил к состоянию мучительного тления.
С муторным волнением пробрался в светлую кухню, опустился на диван, принюхиваясь к запахам маминой незамысловатой выпечки. По утрам у меня никогда не было к ней аппетита. По утрам, напротив, я наполнен был тусклым раздражением. А мать, привыкнув к этому, играла со мной в молчанку, устав от моих неприветливых погаркиванией. И самому было тошно. И был беспомощен пред болезнью. Которая была ветром, развевающим мое бесформенное тело.
Я всегда оставался у матери под боком. И не то, чтобы я что-то там планировал, на подобие переезда – это даже не обсуждалось. Она много раз говорила мне, что не собирается оставаться в этой квартире одна. Но на что мне жаловаться? На то, что меня кормят, обстирывают и убирают? И всё, что от меня требуют – прилежно вбивать себе в голову знания. Нет. Даже этого не требуют. Главное, что бы рядом был.
Знаю, для этой пошарпанной женщины я мало ли не единственный близкий ей человек. Ни друзей, ни родных. Одна, пыльная и тяжелая, совсем мерзкая работа на кухне маленького ресторана в пятнадцати минутах езды от дома. Она работает там с прибацаными хиппи и наркоманами, но не смеет таже обидеть их дурным словом.
После поступления в университет я продолжил жить с матерью. И мне не могло перестать казаться, что я вечно во всем себе из-за нее отказываю. Хотя однажды, взбунтовавшись, я купил мотоцикл-драндулет, из-за которого лишь запасся неприятностями.
Наверное, мать и вправду не могла оставаться одна или же побоялась оставить наедине меня. Испугалась кошмаров. Думает, только вдвоем мы можем с ними бороться. Думает, я одинокий и беспомощный – бестолковый ребенок, что не носит в голове этих токсичных мыслей.
Наши общие, всё такие же яркие и чёткие воспоминания: те три бесконечных дня, что мы с ней, не имея иного выхода, провели в больнице, вдоволь насмотревшись на предсмертные мучения отца – вот что крепче нас связало, помимо стольких лет серой тоски. Это я сделал ее молчаливой и закрытой. Это из-за меня она отвернулась от света и закрыла глаза. Разве может она хотеть так жить? Любить меня. И не уметь сказать мне это?
Рак костей. Метастазы уже давно пустились по его телу. Мой отец умер в больнице тринадцать лет назад. На это было невозможно смотреть, но я любил его слишком осведомленно, чтобы не понять его боль и страдание. И те отвратительные картины, которые раз за разом всплывали перед моими глазами, они навек выгравировались в моём тогдашнем воспаленном мозгу.
Мать постоянно рыдала, сводя меня этим с ума, сидела возле кровати с ужасом и болью, застывшими в глазах. Все изводилась в рыданиях. Отцу каждый час вводили обезболивающее, только и желая со всем этим наконец покончить. Я чётко видел проблески этого желания в глазах всех окружающих. В глазах всех медсестер, врачей, коллег, даже в глазах уборщиц я видел что-то мерзкое и непонятное. Лишь мамины глаза… они были полны отчаянной, раздирающей боли и тяжелых горячих слез, чего я, будучи гипервосприимчивым ребенком, не мог игнорировать. Даже если бы смирился со смертью отца, все равно не мог вынести ее страдание.
Помню, в последний день, я уже не плакал, крепился, скован в тяжелое отчаяние совсем тихими отцовскими словами, которые он судорожно выдохнул мне в ухо, смеясь своими черными глазами. Часа через три, когда последний неслышный вздох, сорвавшийся с его бледных губ, заполнил пространство тягостной пустотой, мы с мамой остались один на один из сокрушенной неизвестностью и одиночеством, с разорванными сердцами, невыносимым ужасом, застигшем внутри тяжелыми глыбами… разбитые, потерянные… Мы остались одни. Одни, разделявшие мучительное и тленное, ничтожное существование. Но мы жили друг для друга, пытаясь быть чем-то полезным, неунывающим, рабочим, пытались не отрывать глаз от света…
И вот, мы срываемся с маленького задрипанного поселка, с желанием чего-нибудь лучшего от жизни. Выкупаем небольшую, старую квартирку по дешевке под крышей на девятом этаже и продолжаем жить вместе. Делаем всё, чтобы не отдаляться, чтобы продолжать жить друг для друга. Но мне надоела эта формальность. Хандра моего тоскливого существования не может длиться вечно и я, предатель, бросаюсь в объятья другой женщины, строю заговоры, пытаюсь оставить свою мать одну, отделить ее от своей жизни, наконец. Хочу, чтобы она начинала жить уже для себя! Заводила друзей, работала лишь на себя и не боялась, не грустила, не отрывала от себя все любимое, опекая меня как ребенка! К чёрту мне такая забота!
Медленно, глуша протяжный скрип, приоткрываю тоненькую буковую дверь, старательно выкрашенную в желтовато-белый цвет. Заглядываю в мамину комнату, казалось бы, полностью заполненную одним только ее диваном. О дверь цепляется черная дорожная сумка, и я тихо отодвигаю её ногой. Мама бестревожно спит, запрокинув своё постаревшее лицо. Кажется, она говорила вчера о том, что выходит на вторую смену сегодня и работать будет допоздна.
А я все смотрю, все изучаю ее отсутствующее, блаженное выражение лица. Пусть она и спала всю ночь непробудно, её лицо почему-то все равно выглядело ужасно измученным. Я поспешно вышел. Зачем я источаю столько жалости? К собственной матери. Пускай надломленная, она никогда не казалась мне несчастной. Потому, что всегда улыбалась и работала.
Мне к девяти. Дорога заберет минут десять-двенадцать. Приземляюсь обратно на выстуженную уже кровать, сажусь, резким движение прикрывая ступни одеялом. Неспешно вытаскиваю из тумбочки учебники и прямо в кровати, пытаясь себя успокоить и заверить, пробегаюсь глазами по прыгающим строчкам собственных корявых записей: руки постоянно трясутся и дергаются, стоит мне хоть немного их перенапрячь, да еще и пальцы противно ноют по ночам, вытесняя остатки зябкой дремоты из моего заторможенного существа. Заглядывая в ванную по таким хмурым утрам, пугаюсь невольно своего посеревшего лица, что демонстрирует мне откровенно зеркало. Хлещу себя по щекам всё ещё гудящими тупой болью пальцами, надеясь, что хоть так во мне скажется жизнь. Бесконечно долго ожидаю, когда из крана потечет наконец, горячая, чтобы нырнуть в нее руками и забыть об одной боли, заглушая ее щиплящим жжением другой.
Задумано переворачиваю шуршащую страницу, со щекотливым напряжением поглядывая на расписанные яркими цветами часы, лежащие где-то на полке. Отбрасываю тетрадь раздраженно, осознаю, что это мне никак не поможет. Глаза поспешно прыгают к окну и, наконец, снова упиваются синевой незамутненного неба, желая вобрать хоть немного чистого и невинного в своё нутро. Как хорошо, что ушла та привычка писать «любви» отчеты. Но невольно вспоминаю то чувство энтузиазма, когда вытягивал с Насти каждое новое ласковое слово. Когда радовался ее сдавленным стеснением признаниям, и когда чувствовал победу, безнаказанно пробираясь рукой под ее футболку. Тогда все было так смешно и просто. И простыми были цели, и прямыми были пути, пока что-то не случилось со мной. Когда и как? В какой момент все понимания сменились полярно, когда безрадостны стали мои обыденные стремления, когда существо мое заполнилось зияющей пустотой и неутолимой жаждой остроты…