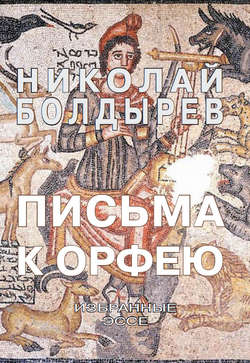Читать книгу Письма к Орфею. Избранные эссе - Николай Болдырев - Страница 4
Солнце в полночь
Пушкин и Пустота
Оглавление1
Любопытен диалог Пушкина с Чаадаевым по поводу России. Почему для Пушкина неприемлема позиция Чаадаева? Потому ли, что она слабо аргументирована? Отнюдь, аргументации блестящие. Пытается ли поэт оспорить положения статьи своего старшего друга: оспорить интеллектуально, идеологически? Ничуть. Пушкин принимает данность мира и жизни как они есть: в этом суть его миросозерцания и сердцевина его жизненной философии. Суть метода (и письма) Пушкина: благодарение Богу, что есть я, есть Россия, и именно такая, какова есть, ибо это и есть единственность существования; предположение (мечтательное) иного, другого существования – умственная фикция, химера, самообман, саморазрушение.
Бессмысленно вопрошать, хороша или плоха жизнь, ибо хороша она или плоха – определяется внутренней установкой нашего сознания, неким нашим направленным из глубин вовне импульсом. Сама необъяснимо упрямая настойчивость той или иной модальности нашего мирочувствования – вот что изумительно отличает один тип интенции (направленного на «мир» внимания) от другого. Если засевшая в глубинах нашего мировопрошания установка – разрушительна, она всегда найдет пищу для глубочайшего и сокрушительного недовольства. Иной тип интенции в столь же обобщенном виде можно назвать попросту довольством. Проиллюстрируем ее суть старинной поэтической миниатюрой, воспроизведенной Леопольдом Стаффом в его грациозной книжке «Китайская флейта». Фрагмент так и называется – «Довольство».7
«Весною листья орхидеи ниспадают, как волосы. Летом луна невесомее скользит по небу. Осенью коричные цветы становятся белыми. Зимой возле лампы можно почитать стихи.
Как же мне не быть довольным жизнью? Временами мне хорошо просто оттого, что смотрю на камень или слушаю ветер. Не подумайте, что я влюблен. Цветок не станет ароматнее, если его сорвет красавица».
Последнее очень важно: «нет, я не влюблен», ибо европейский тип сознания ведет всё к этому шаблону – «только влюбленный имеет право на звание человека» и т. п., влюбленность как форма алкоголя, цветного стеклышка в глазу. Ничего подобного: глубинная, «беспричинная» блаженность. И даже нигилистический экстракт юродивости не нужен.
2
Послепушкинская эпоха в России породила тоскующе-раздраженный (именуемый чаще всего интеллигентским) тип сознания, неуклонно и целенаправленно недовольного «тем, что есть», статусом-кво. Белинский, околдованный атеистическим раем будущего. «В Москву, в Москву!» – провинциальные чеховские герои. «Жизнь через сто, двести лет будет изумительной!..» Сколько раздражения на «нынешнюю» жизнь! Раздражения на ее «растительность», тайная жажда инфернальной «энергетики» будущих мегаполисов, словно бы уже существующих в воображении.
Здесь ухватываются за иллюзию будущего блаженства, ибо ощущают свое бессилие перед натиском сейчас-здесь-свеченья-мерцанья. Здесь страдают импотенцией, следовательно – стремятся скрыть ее от себя в парадных мундирах «высоких требований» к бытию. Импотенция эта, конечно же, особого рода, и не справляются здесь именно со стремительно разворачивающимся «сейчас». Потенции здесь расходуются на мифологизацию перманентного процесса недовольства и мечтательных манипуляций с идеалом.
Для пушкинского сознания (быть может даже для пушкинского типа сознания?) жизнь, то есть актуальный процесс существования, не может не быть изумительной. Существование по самой своей сути (вне всяких условий) есть изумленность и изумительность. Это потрясающее событие, не заменимое ни в один свой миг. Невозможно представить себе Пушкина, ноющего по поводу безобразия «нынешней жизни»8 и воспевающего унылый скепсис или «прекрасную жизнь» через сто-триста лет.
Характерно, что Чаадаев – это вечный старик. Пушкин же – вечный ребенок. Это ребячество его, это опережение действия перед «осмыслением ситуации» кто только не подмечал.
На высоких ступенях монашеской аскезы достигают, как известно, именно состояния просветленного вседовольства, а не брюзжания и пророческой гневливости. Довольство – черта людей не только благодарных, независтливых, но и втайне просветленных. Недовольство – знак длящегося внутреннего конфликта, хаоса, жажды длить внутреннее противоборство ощущений и чувств.
Послепушкинская эпоха в России была, в магистральных своих течениях, настолько глубоко поражена означенным «вирусом», что всякое довольство жизнью и судьбой интеллигентское сознание автоматически помечало метой «мещанства», «пошлости» и прочими ярлыками. Быть недовольным сиюминутной жизнью, быть бдительно неудовлетворенным – с той поры и едва ли не по сю пору почитается хорошим тоном. Мироощущение стало, так сказать, всплывать на поверхность идеологичности и политиканствующей рефлексии из глубин метафизичности и спонтанного космизма.
Что чаще всего кроется за инстинктом «критического взгляда» на реальность? Нигилизм, то есть, если смотреть в суть, – воля к разрушению, воля к смерти. Апеллируя к Э. Фромму, можно назвать это и разновидностью некрофилии. Почему у Чехова (прямого антипода пушкинскому стилю и духу) в рассказах и пьесах разлита столь тонко отравляющая атмосфера омраченности? Не потому ли, что сердцевина того типа сознания, которое он изображает, – более или менее вуалируемый либо поэтизируемый нигилизм? Традиционный романтик сбегает (если, конечно, сбегает) в прошлое, то есть в ту реальность, которая все же существует, обладает плотью, поддается любви. Нигилист же внутренне сбегает в будущее, то есть в умственную химеру, в амбициозное самозаговаривание.
В чем суть просветленности старца Зосимы у Достоевского? Разве не в парадоксалистском довольстве, благости всеприятия и всеблагословления? Подобной ослепительному вседовольству Франциска из Ассизи или Серафима Саровского в его пустыньке. И все апокалиптически-эпилептические экстазы Достоевского – как пробивание «пробок» нигилизма, который пытался охватить его и сжать в своих объятьях.
Случайность ли, что основная философская посылка Р.-М. Рильке: rühmen (восславлять, благословлять)?
Западный человек во многом сформировался именно как нигилистический человек, ибо величайшим нигилистом был Иисус из Назарета, проповедовавший величайшее из всех возможных недовольств – недовольство «миром сим». Во всяком случае, это было одной из важных интенций, приписанных христианскому духу. В ментальность человеческую вошла невероятной силы воля к смерти, смерти для всего «чересчур земного», хтонически укорененного. Началось величайшее бегство в будущее: обетование Новой земли позднего и Нового неба. Тайное тайных христианской молитвы стало молить космос спалить Землю в огне Духа.
Но в этом смысле Франциск, равно как и Зосима и иже с ними, – весьма сомнительные христиане. И в целом христианство (особенно западное) стоит и бытует и процветает именно как тайно несогласное с Христом (что великолепно подметили и Киркегор, и Розанов). Нигилистический пафос первохристианства выплеснулся, как известно, именно у нас с такой коварно извращенной и наивной силой. Антихристианский пафос питался христианнейшим пафосом. Внутреннее неистребимо бездонное противоречие христианского учения взорвалось атомной бомбой русской революции. Расщепление атомного ядра христианства произвели именно русские как простодушнейшая и эсхатологическая нация, к тому же наименее других укорененная в плоти и эстетике земной, менее других привязанная к чувственно-эстетическим благам цивилизации, к ценностям культурного гедонизма.
И если для христианского типа сознания поиск смысла жизни в общем и целом важнее жизни самой, то для Пушкина все как раз наоборот.
3
Если мы окинем взглядом русскую литературу, то увидим, что Пушкин чуть ли не единственный человек, чье сознание было изначальное просветленным. Панорама великих писателей Руси являет собой череду сознаний больших, глубоких, но в той или иной степени омраченных, раздираемых конфликтами, проблемами, «вопросами». Это и неудивительно, ведь все они жили и творили в христианской традиции, в контексте христианского понимания человеческой природы, связанного с мифом о грехопадении и невозможности снять изначальную загрязненность на земном плане. Более того, даже сами христианские иерархи открыто говорят о неуклонном умножении греховности в каждом новом поколении, как о вещи неотвратимой.
Здесь следует пояснить, в каком именно смысле я связываю имя Пушкина с дзэн. Речь, конечно, не идет об исторически сложившейся в 5—6 веках школе чань-буддизма, благодаря своему японскому варианту ставшей не только знаменитой во всем мире, но превратившейся в этакую ложно-обиходную стилистическую эмблему. Речь идет о сути дзэн, которая существовала до всех и всяческих слов о нем и не связана ни с какой-либо нацией, ни с событиями истории. Дзэн там, где перед космически-неизреченной, пьянящей мощью самого по себе процесса существования бесследно испаряются все вопросы о смысле жизни.
Наша публицистическая традиция едва ли не с гордостью отмечала, что для русского человека поиск смысла жизни важнее жизни самой. И это характернейший симптом. С одной стороны, такая позиция возвышает нас над западно-американской моделью голой животности, амбициозного потребительства и эстетства, с другой же стороны, вонзает в нас яростное жало конфликта.
Конечно, всякий истинный художник проецирует в мир энергию дзэн; причем именно в той мере, в какой спонтанно проявляет в себе интуицию ребенка. И в этом смысле Пушкин не исключение. Исключительность его в том, что энергии дзэн были в нем не периферийными, а центральными.
4
Ясно, что Пушкин прожил жизнь весьма несерьезно, несолидно, что ли. Не было в этом ни гётеанства, ни байронизма. Пушкин как-то не удостоил жизнь излишним чинопочитанием. Князь Воронцов имел все основания пренебрежительно смотреть на этого вертопраха. Уверен, что многим было за Пушкина как бы неудобно. До Пушкина поэт в России укрывался в тогу «важного человека», Пушкин первый и чуть ли не единственный эту тогу не пытался надеть. Но и впоследствии в России так на литераторов уже не смотрели: литераторы стали либо моралистами, «учителями жизни», либо политиками. Специфическая солидность литераторов от Белинского до Толстого и Горького очевидна. Жизнь литераторов становилась даже сверхсолидной, какой-то гигантски, порой сверхчеловечески серьезной. Писатель превращался в этакого сановника (в ХХ веке плюс к этому сановниками становились уже кинорежиссеры, а то и артисты)…
Не то – Пушкин. Жизнь его состояла из улыбок, смеха и дурачеств9, из «чаньского» зубоскальства, которое именно тем и очевидно, что мы его сегодня ощущаем как неопровержимую данность. Утверждать, что Пушкин поднимал «серьезные темы», – как бы даже и нелепо. Основная масса его произведений – ни о чем10. О чем «Онегин»? «Энциклопедия русской жизни»? Довольно глупое определение, но даже если, то: обо всем и ни о чем. Ничего: только это скольженье туч, только эта радость искрящегося снега, прозрачности льда, летящей женской руки, прелести бессодержательных разговоров… И метель, и снег, и балы, и первые воспоминанья… И никакой неизбывной меланхолии – этого вечного спутника и вестника христианского образа мира. Никакого религиозного страдания. Пушкин не знал его. И в том он уникален. Позднейшая русская литература основное свое содержание находила либо в религиозном страдании (вершина этой напряженности – Достоевский), либо в активном опровержении оного.
Пушкин, безусловно, верил в изначальную целомудренность человеческой природы, в то, что она не испоганена «первородным грехом». В этом исток его феноменальной прозрачности при всей колоссальной импульсивности его бытового поведения, воистину не укладывающегося в какие бы то ни было рамки «объясняемости». Современное, антидзэнское по своей сути, сознание цинизм воспринимает только как цинизм, а душевную чистоту только как чистоту, не желая видеть их зеркальных взаимоотражений. Как понять «гения чистой красоты» в контексте пушкинской похабщины? Да, конечно, «гений чистой красоты» в своей абсолютности – изобретение Василия Жуковского, в мироощущении которого он защищен и застрахован от малейшей профанации. Пушкинская же личность мерцает внутренним парадоксом, где всякий «гений чистой красоты» в то же самое время – просто баба, порой и недалекая, и похотливая. Романтизма здесь нет, ибо нет внутреннего противопоставления греха и чистоты, низа и верха: все чисто, все изначально чисто. И потому соитие может быть названо своим именем без унижения оного, ибо оно чисто так же, как и сама поэзия «чудного мгновенья».
Пушкин не был романтиком, ибо душа его не знала принципиального разрыва между «идеалом» и «действительностью». Действительное и идеал являлись одновременно, мерцая в одном и том же мгновеньи. Оттого-то колоссальнейшая влюбчивость, одновременность, почти безразличие влюбленностей. Пушкин – невероятно непривязан в своей любовной страсти. Можно подумать, что он любит всех хорошеньких (прекрасных) женщин сразу. Но это так и есть. Как в одной травинке поэт прозревает свойства космической гибкости, так в одной женщине поэт любит женственность как таковую.
Никто, вероятно, не пользовался такой посмертной любовью у женщин, как Дон Жуан, а в более «реальной» действительности – Казанова и Пушкин. Ибо они любили страстно, но не были замкнуты на одно лицо; их чувство, простираясь на всю сферу «вечно женственного», выходило далеко за рамки их эмпирической жизни, так что и современные женщины вполне могут ощущать себя потенциальными его объектами. Воистину: «…мою любовь свободную, как море, вместить не могут жизни берега…» (Мистика А. К. Толстого странным образом перекликается с панэросом легкомысленного Александра). Это вечные любовники, чья распахнутость в принципе не ограничена.
Но герой ошибается один раз. Так и Пушкин был неуязвим лишь до первой привязанности. Стоило ему погрузиться в традиционную любовь-привязанность (Наталья Гончарова), как внутренней его стихии – дзэнскому стилю – был нанесен сокрушительный удар. Пушкин своим беспамятным благоустройством в объятьях Ната-ли, чванным владением ею вступил в бесконечный конфликт с теми внутренними силами в себе, которые его до сих пор питали и хранили. В конечном счете дзэнскому человеку был нанесен смертельный удар: Пушкину ничего не оставалось, как сделать следующий шаг на пути к превращению в статуарность, в сановность в том или ином ее виде. Пушкин поймал себя. Немедленно явился некто вроде вчерашнего двойника Пушкина-Дон-Жуана: Дантес. И вот поэт уже вступает в смертельную схватку с самим собой вчерашним. Пушкин, до сих пор весело хохотавший над мужьями-рогоносцами, без устали наставлявший рога и легко, покусывая черешни, выходивший из дуэлей, наливается тяжелой безысходной яростью мужа-ревнивца, в то время как вокруг хохочет толпа – Пушкин-вчерашний.
В одном смысле Пушкина убивает он сам. В другом – Пушкина убивает статуя, ибо Дантес – осколок сановного мира (вскоре он действительно станет во Франции министром), своего рода инвариант Николая: тот же рост, благообразие, большие светлые глаза, усы, та же величественность, близость к власти. Это, вообще говоря, Каменный гость, но на данное мгновенье выступивший в роли Дон Жуана. Пушкин же, всегда бывший донжуаном, вдруг становится Каменным гостем. Но поскольку он еще не настоящий Каменный гость и уже не настоящий Дон Жуан – он гибнет. Гибнет дзэнский человек. Нужен ли был Пушкин сам себе в качестве неизбывного Каменного гостя, в качестве лица, мечтающего втайне о сановном величии и благообразии? Нужен ли был Пушкин своей музе в качестве защищающегося от жизни, ищущего убежища?
Импровизируя свою жизнь соответственно ритмам ее самой, Пушкин однажды отступил от этой спонтанности, устремившись к статуарности, которая не могла не начать питаться живой кровью поэта-импровизатора. Статуя бессильна перед спонтанной жизненностью. Но жизненность приходит в упадок, как только позволяет начать хозяйничать в себе статуарности.
5
Многозначительна такая история: «Дядя Ириней часто ездил к Инзову в дом. Инзов просил дядю, чтоб он почаще беседовал с Пушкиным и наставлял его. Раз, в страстную пятницу, входит дядя в комнату Пушкина, а он сидит и что-то читает. – «Чем это вы занимаетесь?» – спросил его дядя, поздоровавшись. – «Да вот, читаю историю одной особы», – или нет, помню, еще не так он сказал, – не особы, а «читаю, – говорит, – историю одной статуи». (Да, именно так передавала этот факт П. В. Дыдицкая. В продолжение трех лет, через длинные промежутки, я все просил ее повторить тот рассказ, и она все говорила одно: «историю одной статуи». Что хотел выразить этим Пушкин?!) Дядя посмотрел на книгу, а это было Евангелие! Дядя очень вспылил и рассердился. – «Как вы смеете это говорить? Вы безбожник. Я на вас сейчас бумагу подам!..» На другой день Пушкин приезжает в семинарию и ко мне… «Зачем же вы, – говорю, – так нехорошо сделали?» – «Да так, – говорит, – само как-то с языка слетело»». (Из заметок В. Яковлева).
Историю Иисуса Христа, изложенную Евангелиями, 23-летний Пушкин воспринял как историю Статуи. Слово это вырвалось у него нечаянно, необдуманно, спонтанно. Оно выглянуло по контрасту с самим собой-поэтом – крайне антистатуарным. Затем у Пушкина эта статуарность будет выплывать в разных образах: Каменный гость как антипод Дон Жуана11 (князь Воронцов по всем описаниям – прекрасная статуя, Пушкин же по отношению к княгине Воронцовой – своего рода Дон Жуан), Скупой рыцарь – это статуя скупости, даже и Ленский – статуарен: он раб своей о себе концепции… Онегин – непредсказуемее и тем для Пушкина интереснее.
Вот что вспоминает Станислав Моравский, друг Мицкевича, не раз встречавшийся с Пушкиным и наблюдавший его вполне невовлеченно: «Манер у него не было никаких. Вообще держал он себя так, что я никогда бы не догадался, что это Пушкин, что это дворянин древнего рода». Вот именно: манер никаких. А какие манеры могут быть у маленького ребенка, даже если он потомственный аристократ?
А эта страсть к переодеваниям (в бытовом поведении и в творчестве), то есть к непрерывному слому некоего статуарного своего имиджа12, страстное нежелание превращаться в статую (а как только сочинил «Памятник», то почти сразу был убит – «нарвался на смерть как на мину»), убегание от самоотождествлений, эти игры в порнографические стихи – словно выливаемые на приятелей ушаты ледяной воды, а эта стыковка утонченности чувств и грубости выражений – что это все значит? Куда устремлялась пушкинская ментальность, которой ничуть не грозила ни ученость, ни многознайство, ни должность тайного советника? Его сознание устремлялось в чистый праздник игры, и чувство греха, громадного и неизбывного, не давило камнем его душу, как душу Гоголя, Толстого и Достоевского. Пушкин – это наш русский праздник чань.
6
Этот дух чань проиллюстрирую тремя стихотворениями, приоткрывающими словно бы три ипостаси чаньского умонастроения.
Первое стихотворение – «Туча». Одновременность восторга перед конкретностью того, что совершается у поэта на глазах, и тотального отвержения: «Одна ты наводишь унылую тень. Одна ты печалишь ликующий день».
Довольно, сокройся! Пора миновалась.
Земля освежилась, и буря промчалась,
И ветер, лаская листочки древес,
Тебя с успокоенных гонит небес.
Эта легкость встречи и прощания, одновременный восторг и перед тем, и перед этим (как перед рождением и смертью – в другом случае). Эта опьяненность джазовостью13 бытия, его неостановимостью, его изначально-неизреченной импульсивностью. На маленьком пространстве «туча» и обласкана, и отвергнута, и вознесена, и забыта. Все здесь слито в едином мифологическом синтезе: и меланхолия, и подъем, и странная задумчивость, и всерастворенность. И надо всем – великий покой. В сущности, как-то «понять» это стихотворение – невозможно. «Понято» оно не может быть так же, как, скажем, стихотворение Мандельштама «Я слово позабыл, что я хотел сказать…» («Ласточка»)…
«На холмах Грузии…» Образец дзэнской религиозности. Печаль здесь именно светла. «Унынья моего ничто не мучит, не тревожит…» Глубина невинности покоится на ощущении изначальной «пустотности» человеческой природы. И венчает стихотворение ключевая для Пушкина фраза: «…Что не любить оно не может». Отчего же «печаль светла», отчего «грустно и легко», отчего унынье не переходит в грызущую меланхолию? Да оттого, что любовь у Пушкина еще не собственническая, что Пушкин не привязан к предмету любви. Его любовь еще беспредметна, она скользит и касается всего, на что упадет взор. Ибо сердце дзэнского поэта «не любить не может».
И потому в «Калмычке»: «Друзья! не все ль одно и то же: Забыться праздною душой В блестящей зале, в модной ложе, Или в кибитке кочевой?» Именно – все равно, ибо все – блаженство. «К привычкам бытия вновь чувствую любовь: Чредой слетает сон, чредой находит голод…» Именно так, как учил великий Линь-цзи: «Дхарма Будды не нуждается в специальной практике. Чтобы постичь ее, необходимо лишь обыденное не-деяние: испражняйтесь и мочитесь, носите свою обычную одежду и ешьте свою обычную пищу, а когда устанете – ложитесь спать. Глупый будет смеяться надо мной, но умный поймет!»
В известнейшем стихотворении «Не дай мне бог сойти с ума…» прорывается тоска Пушкина по тому первородному, изначальному состоянию человека, когда он еще был «без-умен», то есть не впал в соблазн «умствований», концепций долженствования, «истинных систем», иначе говоря – в «разум».
Когда б оставили меня
На воле, как бы резво я
Пустился в темный лес!
Я пел бы в пламенном бреду.
Я забывался бы в чаду
Нестройных, чудных грез.
И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья полн,
В пустые небеса;
И силен, волен был бы я,
Как вихорь, роющий поля,
Ломающий леса.
Да это же вся программа мифологического рая, еще не умерщвленного рациональными схемами. Именно так: «расстаться с разумом», чтобы «пуститься в темный лес»! Чтобы «петь в пламенном бреду», «заслушиваться волн», «глядеть в пустые (то есть никак рационально не обозначенные, не вписанные ни в какую знаковую систему, чистые) небеса»! Вот оно, одно из тайных влечений натуры Пушкина: «сойти с ума», освободиться от него!
«Да вот беда: сойди с ума, И страшен будешь как чума, Как раз тебя запрут…» Лишь в этом все дело. А иначе бы…
Почему-то вдруг вспомнился рассказ рок-музыканта Джелло Биафры о неком человеке-с-собаками, который блуждал по жизни столь непосредственно, что Биафре казалось, будто тот преследовал его на улицах Нью-Йорка своей умопомрачительной раскованностью «с-ума-сшедшего». «Человек-с-собаками, – говорит Джелло, – изменил всю мою жизнь. У него было уникальное чувство свободы. Безумие – это свобода, конформность – это смерть…»
Или, как учил Бодхидхарма, отвечая на вопрос, в чем смысл святой истины: «Простор открыт – ничего святого».
Воды глубокие
Плавно текут.
Люди премудрые
Тихо живут.
Написано в то же время, что и стихотворение о безумии.
7
Чаньский дух Пушкина прекрасно отобразился в спонтанности его рисунков, молниеносно вспыхивавших и исчезавших. Пушкина невозможно представить за скрупулезным делом живописи, подобной, скажем, живописи Лермонтова – натуры порывистой, но уже совсем не дзэнской – крайне рефлектирующей, внутренне напряженно-конфликтной, замкнутой в кольце разочарованности и иронии.
После Пушкина началось, с одной стороны, недовольство настоящим, а с другой, – жажда чрезвычайного. И то, и другое принимало самые разные формы: от демонической тоски и бунтарства Лермонтова до футурологических экстазов Чернышевского и Блока. Я уж не говорю о мощнейшей струе христианизированного сознания с его извечной антиномией души и плоти, греха и святости. После Пушкина, когда крепость дзэн защищать было почти некому, русская ментальность стала захлебываться в дерьме недовольства миром, человеком, самой судьбой. (В поэзии этот пик обозначен Цветаевой). Начался упадок реальной мистики, реального жизненного космизма. Наступала эпоха «идеалов» и, значит, все углублявшихся внутренних конфликтов. Сверхтрагическим было то, что содержание идеалов на глубинную поверку имело вовсе не этическую волю, но эстетическую. Завершился этот процесс всеобщей жаждой революции, то есть иррациональной жаждой кровавого спектакля, о чем весьма красноречиво пишет, например, в своих мемуарах С. Булгаков: «Убийство Распутина внесло недостававший элемент какой-то связи крови между сторонниками революции, а таковыми были почти все. Вокруг себя я, по крайней мере, почти не видел и не знал единомышленников». И в другом месте: «Я не хотел революции, когда все ее хотели…»
8
Если мне скажут, что будто бы последние семь-восемь десятилетий14 люди в нашей стране жили в состоянии довольства, я, разумеется, категорически не соглашусь с этим. Хотя, безусловно, жизнь держалась внутренней энергией приятия, довольства, благословления, благодарности, любви.
Природа жизни – катастрофична («Пир во время чумы»). Некатастрофичные эпохи Земле неизвестны. Мудро ли изыскивать «нормальных» людей, объявляя нас ненормальными, «дурдомом», «генетическим мусором» и иными ругательствами, не имеющими никакого реального соответствия чему-либо? Ни одному «научному дятлу» не удастся найти в истории эталонного человека, эталонный этнос или эталонную эпоху. Хотя на уровне поэтически-интуитивном такие пристрастия, конечно же, существовали и существуют. Скажем, Гёльдерлин грезил лишь о древних греках, Розанов испытывал благоговение перед древними египтянами, а для Рильке всю его сознательную жизнь эталонным оставался русский человек. Кстати, именно отсутствие «глянцевости» в каком-либо виде и было привлекательно для австрийского поэта.
Но наши пристрастия не есть сфера научных дискуссий или политических выводов. И в этом смысле «нормального» человека на Земле попросту никогда не существовало, равно как не существовало «нормальных» эпох. Сущность человека и есть бесконечный веер заполнения им своей изначальной пустотности. Человек – не предмет, однажды сделанный и затем могущий быть испорченным или ухудшенным. Сущность человека непредсказуема, назначение – неведомо. Попытки опредметить человека и ведут как раз к теориям о неких целях человечества, о некой «норме» и отклонениях от нее, о первом сорте, о сверх- и недочеловеке. Но как только мы перестаем опредмечивать человека, мы понимает, что сам процесс существования как существования естественно-дхармического и является единственной подлинностью человека. И невыразимая сущность этого процесса не подлежит сравнениям, сравниваниям, учету и оценкам. Процесс существования, незримо контролируемый дхармой, невыразим и абсолютен. Это тайна, не подлежащая стороннему в нее проникновению. Но едва ты посочувствовал чьему-то существованию, как ты уже благословил его. Существование камня ничуть не ниже и не недостойнее существования борца за чьи-то гражданские права. Существование людей в этой «замордованной» стране ничуть не ниже существования прекрасных жителей Швейцарии или Канады. Это разные существования, и космические пути их неведомы.
Жить в довольстве – значит сливаться в своих внутренних ритмах с существованием сосен, речки, холмов, облаков, с существованием коров, жуков, птиц… Это и есть обыденный космизм, который, конечно, вполне можно «обругать» пантеизмом, гилозоизмом и т. д., и т. п.
Надо ли желать вычеркнуть 70-летнюю историю своей страны как нечто постыдное, как некую уродливую гримасу? Но разве гримаса – не часть реальности?
9
Пушкин – самый нехимеричный из русских писателей. Химеричность потихоньку вошла в русскую жизнь после Пушкина. Пушкин обладал секретом спонтанного переживания реальности. Химеры умственных построений не мучили его. Странно, что он не почуял будущей химеричности Гоголя, в «Вечерах…» которого его восхитила расковывающая стихия чудес и юмора. Лермонтов – весь из острых углов мрака и света. Но эталон разорванности – Гоголь, омраченный в жизни и ослепительно-раскованный в творчестве.
Можно сказать, что вместе с Пушкиным в русскую литературу впервые и единственный раз вошла стихия детства. Само его отношение к эросу, не имеющее ничего общего с сегодняшним повальным промискуитетом, – это суперэротизм отрока (конечно же, внутренне центрированного), который живет взахлеб и зачарованно, порой настолько сливаясь в своих ощущениях с объектом, что не различает, где кончается объект и начинается «я». Сама обида Пушкина на Дантеса, смертельность этой обиды есть обида ребенка, которого невозможно утешить, раз у него украли любимую игрушку. И здесь Цветаева права: Натали – кукла, прекрасная, чудесная игрушка! Но: игрушка для ребенка нечто бесконечно более значительное, нежели для взрослого живой человек! (Ср. у Рильке: «Лучше кукла, чем не вполне содержательная маска».)
После Пушкина пошла взрослая озабоченность, прагматизм, серьезность «разрешения проблем». Русский мир терял свою намагниченность исконным мифологизмом.
Пушкин – менее всего интеллектуал, все попытки сделать из него «серьезного дядю», исторического мыслителя – в высшей степени нелепы15. Ребенок, даже самый высоколобый, не может быть интеллектуалом, не может мыслить концепциями-приговорами, умерщвляющими живой поток созерцания-схватывания бытия. Вселенная, которая, выражаясь словами Рильке, всегда дитя, в равной мере не интеллектуальна и не рефлективна. Она не одолеваема бесконечно сменяющимися концепциями. Вселенная интеллектуально невинна, хотя и хранит в себе потенциально безбрежность интеллектуальных форм.
Лишь в детстве-отрочестве так держатся за дружескую компанию, так самозабвенно отдаются самому процессу дружбы, «дружения» (процессу бескорыстному, поскольку исключительно игровому), как Пушкин до самого конца держался за лицейский круг, ощущая это единение почти мистически. Распад кружка и уход все новых и новых членов этой «игры» оказывал на поэта почти ощутимо смертоносное воздействие.
Жизнь в ее «серьезных» проблемах не стоит и ломаного гроша рядом с ослепительной игрой непосредственного мифологизма, когда каждая вещь, каждый ракурс, каждый грамм вещества умопомрачительно сверкают метеоритно-ошеломительным, неправдоподобным праздником. Невозможно состыковать два эти мировосприятия. Это две абсолютно разные формы существования человеческого материала, человеческой ментальности. Кто такой адепт дзэн? Это взрослый, таинственным образом прозревший свою вечно-детскую природу, постигший эту детскость как сакральный модус сознания. Что значат пушкинские слова о том, что «…меж детей ничтожных мира, Быть может, всех ничтожней он. Но лишь божественный глагол До слуха чуткого коснется, Душа поэта встрепенется…»?
10
Пушкин – это бодхисаттва нашей культуры, потому-то его земная жизнь, все ее подробности так для нас важны, важны как некий энергоноситель. Каждый жест и поворот головы мы ловим как некую ценность, ибо суть Пушкина – сам процесс (между тем ценность Тургенева или Достоевского для нас – почти исключительно в их словах, в писаниях), не столько слово пушкинское важно, сколько сам факт пушкинского бытия, пластика его пребывания в пространстве, присутствия его просветленности, его изначально-тайной безгрешности. Потому-то Пушкин утонул в апокрифах. Апокрифы важнее текстов. Пушкина читают не так уж много. Его либо сразу, в детстве, с ходу выучивают наизусть, либо дышат им, даже не зная его. Пушкин принципиально не ассоциируется с православной церковью, ибо Пушкин внецерковен. Но он и не язычник: он – бодхисаттва русской земли и ее литературной жизни.
Совершенно прав В. С. Соловьев, уличая Пушкина в нехристианскости: Пушкина в этом смысле исправить могла только пуля.
Пушкин внеморалистичен. Проза его совершенно «пуста», она прозрачна до такой степени, что не поддается никакой «интерпретации». Любые «интерпретации» Пушкина ложны. Именно по этой причине обречены на поражение переводы Пушкина на другие языки: «пустоту», уловленную однажды спонтанно в формах случайно-языковых, невозможно интерпретировать, а ведь перевод и есть не что иное, как именно интерпретация. Невозможно интерпретировать спонтанность, прозрачность, безгрешность.
Пушкин мудр, будучи простецом. Он соединяет бесконечные пары противоположностей: он повеса и хороший семьянин, он влюбчив и независим от женщин, он вертопрах и философ и т. д., и т. п. Никак не могут понять, как это возможно: написать «Я помню чудное мгновенье…», а в частном письме рассказывать о том же событии как о зоологическом приключении. С христианской точки зрения это, конечно, не понять. Но это понятно с позиций сознания спонтанно-импульсивного, не способного разделить мир на низкое и высокое.
Именно поэтому, стихийно стоя вне христианской традиции (христианская меланхолия входит в душу Пушкина лишь на стремительно-заключительном этапе его пути), он навсегда остается одним из коренных столпов нашей культуры. Он – тот витамин, по которому тайно томится христианское сознание, обреченное на безнадежное подавление в себе «гения чистоты».
Все попытки открыть секрет могучего влияния Пушкина и его величия через понятия «народности», «гуманности», «историчности» и т.п. – смехотворны. Мощь влияния Пушкина именно в том, что он безыскусен и совершенно бессодержателен. «Бессодержательность» Пушкина – его величайшее достоинство, ибо таким образом Пушкину удалось схватить и выразить именно самое невыразимое – пустоту феноменального мира, мировую пустоту, если хотите. Поражает именно пустота пушкинских поэтических медитаций. О чем они? Совершенно неведомо. О чем «Туча»? Не о бессловесном ли, неопределимом дао? О чем «Бесы»? В чем смысл этого размытого стихийными играми пейзажа? И чем пленительно «Зимнее утро»? Не устрашающей ли детскостью, полным отсутствием взрослого содержания?
Почему именно о Пушкине ходит наибольшее число анекдотов? О самом «святом» для русского духа – именно наибольшее число анекдотов? Почему это не коробит? Почему подобное «снижение образа» не только не может повредить Пушкину, но словно бы что-то важное в нем схватывает? Да потому, что личность Пушкина находится в той плоскости, куда моралистике не добраться. Над Пушкиным смеяться можно, потому что он сам смеется тоже: Пушкин есть смех16.
11
Блуждания вокруг темы «Пушкин и пустота»17 происходили всегда. Всегда томил загадкой парадоксалистский феномен Пушкина: при громадности ощущаемого для нас всех его значенья отсутствовало именно то примышляемое громадное содержание, которое нам как бы непременно следовало изучать и интерпретировать. Именно это «проблемное» содержание как-то таинственно всегда исчезало, улетучивалось, уплывало меж пальцев. Огромное количество исследователей, поэтов, критиков восторгалось летучестью, «эхо»-сообразностью, всеоткликаемостью, всеприсутствием, неслыханной прозрачностью внутреннего лица и творчества Пушкина (ср., например, у Ю. Айхенвальда: «Проза его – венец словесной прозрачности»), однако все эти восторженные справедливые характеристики почему-то никак не сходились в один центр, в некий корень, который бы все объяснял, делал бы более или менее уяснимой тайну этой гармонии; более того – делал бы объяснимым, почему мы уже почти двести лет тянемся к Пушкину и чуть ли не тоскуем по нему, почему ощущаем его как некий страшно необходимый нашему организму витамин.
Вот почему феномен «дзэнской» пустотности Пушкина ставится мной во главу угла; потому что иначе все восторженные характеристики Пушкина превращаются в очередную, хотя и искреннюю, банальность. Что, скажем, можно добавить к проницательному анализу феномена Пушкина у того же Ю. Айхенвальда в его известном очерке?
«В самом деле, он – эхо мира, послушное и певучее эхо, которое несется из края в край, чтобы страстно откликнуться на все…» «Пушкин вообще не высказывал каких-нибудь первых, оригинальных и поразительных мыслей; он больше отзывался, чем звал…» «Он, как художник, не обнаруживал и следа интеллектуализма…» «Всеотзывная личность его была похожа на многострунный инструмент, и мир играл на этой Эоловой арфе, извлекая из нее дивные песни. Великий Пан поэзии, он чутко слышал небо, землю, биение сердец – и за это мы теперь слушаем его…» «Эхо души и деяний, внутренних и внешних событий, прошлого и настоящего, Пушкин в своей отзывчивости как бы теряет собственное лицо. Но божество тоже не имеет лица…»
Что это, как не приближение к пониманию «пустотности» Пушкина, той его сущностной «анонимности», которая не может не быть оборотной стороной «всеокликаемости» и «всеоткликаемости»? Ведь когда мы говорим о феномене психологического «всеприсутствия» Пушкина, мы не можем не осознавать, что речь идет и об одновременном «великом отсутствии». Сказать «Пушкин – наше всё» значит сказать: «Пушкин – это наше Ничто».
«Сердце мудрого человека, при всей чуткости своей, невозмутимо…» – писал Чжуан-цзы. Так оно и есть: огромная подвижность чуткой «окликаемости» и при этом, под этим – фантастическое спокойствие, если хотите – равнодушие, отмечавшееся еще директором лицея Е. Энгельгардтом. А вспомним знаменитое пушкинское «Дар напрасный, дар случайный…», вызвавшее в свое время довольно-таки наивную полемику. Со всем «дзэнским» простодушием Пушкин обнажил гениальную антиномичность своего бытия. С одной стороны, некто «Душу мне наполнил страстью, Ум сомненьем взволновал», а с другой – «Сердце пусто, празден ум…» Одновременность трепетной вовлеченности и глубочайшей отрешенности.
«Сердце мудрого человека, – продолжает Чжуан-цзы, – зеркало земли и неба, оно – незамутненное отражение всего сущего. Пустотность, тишина, спокойствие, равностность, молчание, нереагирование – вот уровень неба и земли. Это – совершенное Дао. Покоясь, мудрецы сливаются с пустотностью18 всего мира». Однако этот ментальный феномен так называемой «неподвижной мудрости» вовсе не означает бесчувственности и окостенелости. Напротив. «Это означает высшую степень подвижности при сохранении неподвижного центра. В этом состоянии ум достигает величайшей степени живости и готовности направить свою энергию туда, куда нужно… Внутри есть нечто неподвижное, и оно спонтанно перемещается вместе с предметами, появляющимися перед ним. Зеркало мудрости мгновенно отражает эти предметы по мере их появления, но само остается незамутненным и неподвижным». (А. Уотс). Чем это не феномен Пушкина?
«Идеал дзэна состоит в том, чтобы постичь реальность, не испытывая затруднений интеллектуального, морального, ритуального и какого бы то ни было другого плана», – Д. Судзуки. Это к вопросу о сущности «реализма» Пушкина. К вопросу о непосредственном созерцании истины.
Пушкину потому и не нужны были сложные темы, интеллектуальные подходы, «проблемы» и т. п., что он потрясен был, потрясаем самым простым, близлежащим, наглядным, очевидным. Эта изумительность ощущения мира как своего собственного всеприсутствия (жить в вещи, чтобы таким образом понимать ее) превращала прикосновение к мельчайшей детали в чудо. И та «каталогизация» мира, которую отмечает Терц, это отнюдь не предчувствие постмодернизма, а прямое проникновение в блаженство произрастания. Ибо я и вещь – не отделимы. И реализм Пушкина, о котором сокрушался Терц, не имеет ничего общего с тем реализмом, по которому покатилась русская литература в дальнейшем. Реализм Пушкина – это тот прорыв к Реальности, который только один чего-либо и стоит; это, если хотите, именно «дзэнский» реализм: в дзэн есть метод «прямого действия», «прямого указания» на что-то, цель которого – разорвать круженье сознанья в символических представлениях о своем «я» и «ткнуть нас носом прямо в реальность», в таковость, в «вот оно!».19 Пушкин и действует в рамках этой методики: прямиком отсылает нас к бес-покровной реальности, к голизне вещей.
Зрелый Пушкин – не романтик и не реалист, его творчество – «чаньский» вариант русской ментальности, чистое языковое действие, ясное и простое, как удар клинка.
Январь 1992
7
Перевод здесь и далее – наш.
8
Единственно, чего бы мог стыдиться Пушкин, так это юношеской своей бранчливости по отношению к императору Александру I, великодушно прощавшему ему чудовищные по нахальству и несправедливости стихи.
9
Разумеется, не с целью эпатажа или выпрашивания к себе внимания, как в наше время.
10
Уже почти два века эта странная пушкинская черта шокирует многих и многих. На так называемую «беспредметность» его романа в стихах обижались еще при жизни поэта. «Но Пушкин нарочно писал роман ни о чем», – Абрам Терц.
11
В некотором смысле пушкинский донжуанизм аналогичен той «священной проституции», о которой размышлял Розанов.
12
В этом, как и во многом другом, было бы нелепо проводить параллель между Пушкиным и современными «постмодернистскими» играми, насквозь рационализированными и внутренне мертвыми, этакими придуманными спектаклями «во славу меня любимого».
13
В архаически-исконном смысле этого слова.
14
Эссе писалось в 1992 году.
15
Свое понимание истории, свое ощущение истории Пушкин выразил всей суммой своих писаний, своих стихов; лишь внутренним ритмом своих текстов Пушкин постигал «смысл истории». Пушкин не был и не мог быть «узким специалистом» ни в одной сфере, ибо «специальностью» его была именно вся «сфера» бытия.
16
На этом, собственно, и заканчивалось наше эссе. Одиннадцатая главка возникла позднее – как своего рода ответ тем читателям, которые (после журнальной публикации работы) пеняли автору на якобы легкомысленно-бездоказательное соединение «пустоты» с именем Пушкина, которое как раз и есть для русского уха символ полноты и здоровья. Таким образом, пусть читатель рассматривает эту главку как всего лишь вынужденно затянувшуюся сноску к одной из строчек главки девятой.
17
После выхода в свет романа В. Пелевина «Чапаев и Пустота» тема восточной пустотности в связи с историей русской литературы приобретает гомерически иронический и постмодернистский характер. Впрочем, гротесково-карнавальная атмосфера отнюдь не порочит дзэн; скорее наоборот. – Примечание 2010 года.
18
Для буддиста подлинники вещей выявляют себя в Пустоте, посредством Пустоты, и настраивается человек на это невидимое «сердце мира» посредством внутреннего ритма.
У Абрама Терца в его книге «Прогулки с Пушкиным» есть точные фиксации «дзэнских» жестов и интенций Пушкина; например: «В сущности, в своих сочинениях он ничего другого не делал, кроме как пересказывал ритмичность миропорядка». Я вспоминаю у Новалиса: «Всякий метод есть ритм: если кто овладел ритмом мира, это значит, что он овладел миром».
Однако в целом А. Терц ощущает и трактует «пустотность» Пушкина под знаком ущерба (сугубо западная интуиция Пустоты и Ничто), под знаком мрака и угрозы для жизни. С одной стороны, А. Терц намекает на «салонное пустословие», а с другой, – прямо говорит о пушкинской «пустотности» как о феномене вампиризма и вурдалачности: «В столь повышенной восприимчивости таилось что-то вампирическое. Потому-то пушкинский образ так лоснится вечной молодостью, свежей кровью, крепким румянцем, потому-то с неслыханной силой явлено в нем настоящее время: вся полнота бытия вместилась в момент переливания крови встречных жертв в порожнюю тару того, кто в сущности никем не является, ничего не помнит, не любит, а лишь, наливаясь, твердит мгновенью: «ты прекрасно! (ты полно крови!) остановись!» – пока не отвалится».
О, как пугается «настоящего времени», вечного прэзенса «христианское» сознание с его постоянными метаниями между прошлым и будущим, именноэтого истечения вечности через «прэзенс» и не знающее!Таков чисто «христианский» счет Терца Пушкину.
Таково чисто «христианское» противление «дзэнскому» стилю, «чаньскому» ощущению пустотности. Ведь для Терца феномен «огромности Пушкина» во многом заключается в его «сердечной неполноценности», вследствие чего «он пожирал пространства так, как если бы желал насытить свою пустующую утробу…»
Для Терца многочисленные «трупы в пушкинском обиходе представляют собой первообраз неистощимого душевного вакуума…» «Писарев, заодно с Энгельгардтом ужаснувшийся вопиющей пушкинской бессодержательности, голизне, пустоутробию, мотивировал свое по-детски непосредственное ощущение с помощью притянутых за уши учебников химии, физиологии и других полезных наук. Но, сдается, основная причина дикой писаревской неприязни коренилась в иррациональном испуге, который порою внушает Пушкин, как ни один поэт, колеблющийся в читательском восприятии – от гиганта первой марки до полного ничтожества».
Действительно, эти парадоксальные амплитуды восприятия Пушкин задавал и не мог не задавать умам, жаждавшим «смыслов», а не ритма. Восточная интуиция пустоты сообщает нам важнейшую тайну о бессмысленности искать некое содержание в мироздании и, соответственно, в человеке. (Подобно тому, как отправляются искать сокровища на остров). Сокровищем является каждая пылинка. И горы бриллиантов не больше ее. Восточная интуиция пустоты сообщает нам о бессмысленности гнаться за обладанием тем или этим. Это роковая ошибка – полагать мироздание складом содержаний, мыслей, вещей и смыслов. Которыми можно овладеть или извлечь «из себя». Тайна жизни – в прикосновенности к бытийству, в настройке своего целостного, телесно-духовного ритма в унисон ритму «Сердца мира». И только. Но это только бесконечно освобождает и открывает взор.
19
«Когда жизнь пуста по отношению к прошлому и бесцельна по отношению к будущему, вакуум заполняется настоящим – тем настоящим, которое, как правило, в обычной жизни сводится до волосяной линии, до доли секунды, когда ничего не успевает произойти» (Уотс). У Пушкина как раз и происходит громадное раздвижение этой “волосяной линии”. Кто, например, как он умеет наслаждаться скукой, тоской, печалью?.. «Куда как весело! Вот вечер: вьюга воет; Свеча темно горит; стесняясь, сердце ноет; По капле, медленно глотаю скуки яд…» А безупречно сакральное торжество живого настоящего момента в “Зимнем утре”! А его сгушенье в “Онегине”! Жизнь замедляется почти беспредельно, но отнюдь не искусственно, она замедляется, почти останавливается по методу, близкому той “остановке времени”, ума и мира, которая происходит в традиционно-восточной чайной церемонии.