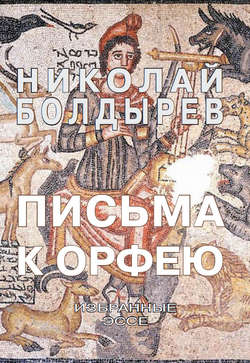Читать книгу Письма к Орфею. Избранные эссе - Николай Болдырев - Страница 8
Письма к Орфею
Вслушивание и послушание
Оглавление(По прочтении восьмой Дуинской элегии)
1
Упакованные в интерпретациях мира, можно даже сказать, утонувшие с головой в этих бесчисленных и многослойнейших интерпретациях, мы смотрим в «жизнь», в «бытие», в «космос», но не видим их: нам приоткрывается что-то лишь промельками в случайных пробелах и щелях этой мутновато-прозрачной пленки, в которую мы обернуты, либо в мгновения остановки работы интерпретационного механизма. (Целан назвал одну из своих книг «Решетка языка»). Цивилизация и культура обложили человека капканами, так что, каков мир “на самом деле”, мы не знаем, это мы могли бы узнать, если бы взглянули на него очами зверя или цветка, фонтана или колодца. Ведь есть же простор и модальность, где цветы непрерывно распускаются! Но и человек иной раз прорывается из плена. Ребенок/отрок себя теряет в тишине. С каждым из нас такое случалось. Мы были в это время где-то. Но где? Не смогли бы ответить, потому что эта местность как раз и называется у Рильке – Нигде. Она не связана с внушенным нам образом мира и потому словно бы нереальна, хотя всё в точности до наоборот: реальна только она.
Или тот, кто уже почти умер, но еще жив. Всё, чем его пичкали, весь этот туго упакованный багаж знаний о мире ему уже не нужен, он воистину для него бессмыслен, так что он уже не понимает, зачем растратил свою энергию на всю эту дрессуру по отношению к весьма сомнительной и жалкой гипотезе. И вот он, уже почти свободный, смотрит вперед новым чистым взглядом. Но ведь он мог «взять в скобки» всю эту сомнительную гипотезу о мире гораздо раньше? Да, в принципе мог, но сколько бы для этого ему понадобилось решимости и смелости! Сумей он это, он стал бы героем. В этом как раз и суть Мальте Бригге, героя рилькевского романа: он пытается еще живым прорвать кольцевую решетку, взявшую его в заложники.
Еще – влюбленные, когда они наедине друг с другом в первые часы и дни любви. Прежний мир выпадает полностью из их вниманья, и тогда они в том космосе, что сплошная неизвестность. Неведомость. Но не только. Рильке называет это первой нашей родиной. То есть прародиной, истинным нашим топосом.50
Мы обманываем себя ожиданием будущего, которого на самом деле нет. Зверь и цветок не ждут будущего. Потому-то они всецело в том, что есть. Мы обманываем себя вторично, с ужасом представляя смерть где-то там. В то время как она всегда здесь с нами, в нас, повсюду. У зверя же впереди только Бог, но не смерть. И потому он живет, как и цветок, в Открытое (ins Offene), во всегда-Открытое, движется в Открытость и в Открытости. Но в открытости кому? «Богу» то есть Благу? Или абсолютной Неведомости?
Из сказанного понятно, что Открытость – вовсе не Простор в физическом смысле слова; будь так, тогда бы современные пожиратели пространств: воздушных, водных и иных, – автоматически становились мудрецами и посвященными. Сам Рильке, когда ему был задан прямой вопрос о сущности das Offene в контексте Восьмой элегии, отвечал (в письме) так: «Понятие das Offene, которое я попытался ввести в этой элегии, следует воспринимать в том смысле, что уровень сознания животного вживляет его в мир, однако оно не противостоит миру в каждый момент (как это делаем мы); животное есть в мире; мы же стоим перед ним вследствие гипертрофированной внутренней установки на позиционирование… Под das Offene (открытым, открытостью) понимаются, стало быть, не небеса, воздух и пространство – как раз они-то для того, кто созерцает и размышляет, суть “предметы” и, значит, “opaque”51 и закрыты. Животное, зверь, цветок, вероятно, и суть это самое – неосознанно, не давая себе в том отчета, и таким образом имеют перед собой и над собой ту неописуемо открытую свободу, эквиваленты которой (крайне летуче-преходящие) можно найти у нас лишь, быть может, в первых мгновеньях любви, когда один видит собственный горизонт/даль в другом – в любимом, да еще в нашей взвихренности к Богу».52 Открытость – это скорее внутреннее состояние существа, чистого от “внутреннего диалога”, от властно-нарциссической силы эго, состояние существа, распахнутого тотальности бытия. (Не смешивать жизнь с бытием!)
Удачно прикасается к обертонам этой Открытости на примере цветка, на примере рилькевской розы Отто Больнов, понимающий, почему поэт взял в полноту внимания (в своем творчестве и в своей приватной жизни) именно розу – в ней максимально обнажена эта взимопереходность внутреннего и внешнего, ибо в ней всё внешнее по большому счету иллюзорно, при всей своей пленительности оно – эфемерно и летуче, как и наша плоть.
С одной стороны, Больнов отмечает: «Cущество розы описывается (Рильке в стихотворении “Чаша роз”. – Н.Б.) прежде всего в ее беззащитности и хрупкости. Поэтому поэт берет черту, известную еще по анемонам, и развивает ее дальше: “Жизнь безмолвная, нескончаемый восход, / потребность-в-пространстве, но без пользования пространственностью того пространства, / которое уменьшается от вещей вокруг…” Эта беззвучная, неслышная жизнь, не обладающая силой и властью (доминантами нашей нынешней массовой ментальности. – Н.Б.), есть бесконечный восход в том смысле, что один цветущий лепесток следует за другим. Вновь и вновь из нежной и ранимой глубинной задушевности во внешний мир проникает фрагментик, уже тем самым рискующий и брошенный. <…> Роза здесь – символ той беззащитной действенности духа, которая позднее будет представлена и в образе певца Орфея, однажды весьма впечатляюще даже идентифицированного с цветущей розой…»
С другой стороны, «…стихотворение “Недра розы” начинается непосредственно с побудительного вопроса: Где внешнее к этому внутренне-душевному? Однако речь здесь идет не о том, что у розы есть недра (сердцевина, душа), но что она сама в качестве целого и есть сами эти недра и только недра (душа). Именно потому, что роза в бесконечной открытости бытию своих лепестков не имеет более никакой поверхности, благодаря которой, собственно, и могло бы быть отличимо внутреннее пространство от внешнего, это отношение между внутренним и внешним, если оно вообще может быть применимо, как раз и должно быть понимаемо не в пространственном смысле; потому-то и становится возможным перенос душевно понятых недр на розу». (O.F. Bollnow. Rilke. Stuttgart, 1956).
Ассоциируя себя с розой (в том числе в своей знаменитой автоэпитафии), поэт хотел сказать, что ничего собственно внешнего в нем нет и не было. И собственно имя “Роза” обозначает некое измерение недр, манифестированное этими иллюзорными прекрасными лепестками. Потому-то: «O reiner Widerspruch!..»53 Вот истинное имя розы, столь схожее в именем поэта – Райнер (Reiner): противоречья в нем чисты.54
2
Рильке чувствовал фундаментальнейшую вещь: так называемый внешний космос «на самом деле» есть громадная душа, и лишь внутри этой души возможны подразделения (весьма условные) на внешнее и внутреннее, на материальное и духовное. Иными словами, вся материальная структура бытия (воспринимающаяся нами как материальная: в известной мере иллюзия чувственности) движется внутри душевного мирового порядка. Внутри душевного космоса Первопоэта, поющего и танцующего Песнь-мантру. Как это делал Кришна – один из аватар Вишну, который, в свою очередь, есть «часть» Шивы, который и есть изначальная Душа и Чистое (reinere) сознание.
Романо Гвардини истолковывает Открытость (das Offene) у Рильке как Бога. Вот как он к этому выводу движется. Одна из центральных и сердцевинно-болезненных тем Рильке была, как мы знаем, тема непереходной (не нуждающейся в ответности, не ждущей ответа и в этом смысле “спланировано” безответной) любви как пути к подлинности миропереживания, где Бог выступает своего рода центральной фигурой. Гвардини прослеживает логическую цепочку переживаний Рильке/Мальте, пытаясь найти момент, с его точки зрения, ошибки.
«Бог не есть Кто-то, кого можно было бы, как находящегося напротив, познавать и любить, еще менее тот, “чьей ответной любви можно было опасаться”. По отношению к Нему нет никакой цели, лишь “бесконечный путь”, та “сокровенная безучастность сердца”, из которой, собственно, и исходит любовь, когда, как это значится в приведенном месте (Гвардини цитировал и цитирует роман о Мальте. – Н.Б.), “сердечные лучи” стали “уже параллельными”. Как только глаза направляются на что-то определенное, глазные лучи пересекаются в/на объекте; “параллельными” они становятся, как только взгляд уходит сквозь предмет в бесконечность. Соответственно это сохраняет силу и в отношении актов сердца, “сердечных лучей”. В любимом человеке они сходятся; акт55 обретает в нем цель и смысл. Если же они становятся “параллельными”, то есть если у акта нет больше предмета, тогда он уходит в бесконечность. Любовь осуществляется не на ком-то одном, но просто-напросто проходит сквозь него в Открытое (ins Offene). Как только речь заходит о Боге, любовь пытается, во всяком случае вначале, воспринимать Его как находящегося напротив. Если же она обучена “правдивости сердца”, тогда ей становится ясно, что это отношение (dieser Bezug) фальшиво, и вот она начинает учиться, как о том говорит и Мальте, и письмо <Рильке> к Ильзе Яр, в долгих трудах двигаться сквозь Бога (вначале понятого как находящегося напротив) в Открытость. Именно с нею и оказывается реальный Бог, ибо Открытость, Открытое (das Offene) и есть сам Бог.
В этом пункте свидетельства сливаются воедино. Элегия (восьмая. – Н.Б.) говорит: движение твари, сделавшееся свободным от земного предмета и идущее в Открытость, имеет перед собой Бога. “Мальте” говорит: Бог “вовсе не есть предмет любви”, но Нечто, стоящее за пределами любого обращения и, будучи задано по мерке воли, имеющей Его напротив себя, преодолеваемое. Из первого высказывания явствует, что Бог есть то, куда идет движение Творения (твари) и в чем каждое существо становится абсолютно свободным и совершенно самим собой. Согласно второму высказыванию Бог есть Нечто, что является тогда, когда высший акт человека, любовь, отказывается от того, чтобы иметь Его перед собой в качестве предмета любви; когда она становится в отношении к Богу “неутоленной и бедственной”. Она отталкивает каждое непосредственное отношение, просто давая всему осуществляться бытийственно. Тем самым вполне логично, что исчезает личность Бога, равно и человека, ибо отношения
50
Именно об этом идет речь в эпопее Кастанеды, где дан образ мексиканского крестьянина Хуана Матуса, конгениального зверю и цветку в топонимике Рильке. Хуан Матус именно-таки сумел взять в безупречнейшие скобки «мудрость мира сего» (включая религиозные концепции), всё это лжемудрствование, и научился смотреть в открытый простор, сплошь из Неведомого, в прекрасный и грозный Космос, столь же внутренне-душевный, сколь и внешний, ибо Хуан понял основополагающее: всё есть сознание.
Значит ли это, что всякий простой крестьянин, каждодневно-близко общающийся с почвой, зверем и растением, неизмеримо ближе интеллигента к Открытости и к Реальности? Надо полагать, что именно так.
51
Непрозрачны, непроницаемы (фр.).
52
Напомню еще вот что: в письме к В. Гулевичу Рильке говорит о том, что мы, будучи не утоленными временным сейчас, непрерывно переходим к тем, кто были и к тем, кто будут. «В этом величайшем, “открытом” мире все присутствуют – нельзя сказать чтобы “одновременно”, ибо как раз исчезновение времени и предполагает, что все они – есть».
53
О чистый парадокс (противоречие)! (нем.).
54
Rein – чистый (нем.).
55
der Akt – действие, поступок, переживание, совокупление (нем.).