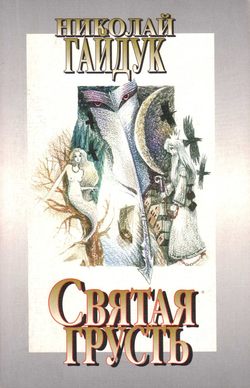Читать книгу Святая Грусть - Николай Гайдук - Страница 13
Часть первая. Приключения в царских палатах
Глава одиннадцатая. Высокая работа седого звездочёта
Оглавление1
Певучее сердечко петуха томилось тревожным предчувствием. Горло странно зуделось последнее время, точно топор почуяло. И ни пить, и ни есть не хотелось ему. И за подружками-несушками не хотелось бегать. И солнце на восходе – на пороге побудки – уже не радовало так, как прежде.
И оказалось – это не напрасно.
Сегодня ночью кто-то заглянул в царский курятник.
Будимир насторожился, кококнул, слетая с насеста.
– Тихо, тихо, дружок, успокойся, – промолвил чей-то голос, фальшиво-ласковый.
В темноте шуршал мешок.
Петуха накрыли. Он отчаянно сопротивлялся, когтями раздирая мешковину, царапая чьи-то вонючие лапы. Но что он мог поделать в тесноте мешка? Его сдавили – начали душить. Ещё минута, если не меньше – и всё, и хана бы ему… Но что-то помешало вертопрахам…
Бросай! Идут! – раздался шепот.
Кто? Где?
Охрана! Близко!
Подожди, сверну башку ему…
Бросай, покуда не свернули нам самим!
Ночные вертопрахи бесшумно скрылись. И тут же в Курятник заглянул один из гренадёров из команды охраны.
– Да нет, – сказал он кому-то. – Тут всё тихо.
– Значит, показалось. Ну, пошли, вздремнём.
Полузадохнувшийся петух какое-то время лежал, раскинув крылья, на мраморном полу Курятника – рядом валялся брошенный скомканный мешок. Полуоткрытым глазом Будимир видел синеющее оконце. Понимал, что надо встать – скоро заря. Но слабость, противная дрожь одолели его.
«Опоздаю, – толскливо думал он. – Вот будет позору!»
Солнце брызнуло кровью по небу…
Будимир поднялся. Привёл себя в порядок и поспешил на работу – минута в минуту. Горло у него после ночного происшествия немного побаливало. И всё же он пропел зарю. Провел вполне достойно. Хотя, если честно сказать, пропел без того горячего азарта, каким отличался всегда. Но Звездочёт Звездомирович не заметил этого, увлечёнными своими делами. И потому петух получил в награду очередное жемчужное зёрнышко, всегда вызывавшее радость в душе. Всегда, но только не сегодня.
– Что-то случилось? – спросил Звездочёт Звездомирович, глядя в потускневшие глаза певца.
Будимир хотел рассказать Соколинскому о ночном происшествии, но не смог, не захотел; почему-то стыдно ему сделалось. Ночные страхи показались пустяковыми, точно приснились.
– Гарем большой, работы много, вот и не выспался, – сказал он, покидая Утреннюю Башню.
А Звездочёт Звездомирович продолжил свою работу. Нужно было сосчитать небесные сокровища страны Святая Грусть. Здесь не то, что каждая звезда – каждая пылинка звездная должна быть на учёте. Вот почему святогрустные вечера и святогрустные ночи так сильно вдохновляют поэтов, музыкантов и художников. Светло здесь, как нигде! Звездные россыпи – вот они, в целости и сохранности!
2
Основание Утренней Башни – крепкий фундамент и нижний этаж – из камня. А верхний ярус мастера слепили в виде стеклянной светелки, обладающей свойством увеличительного стекла: созвездья, кажется, плавают прямо перед глазами, светлыми щупальцами щупают ресницы – руку можно протянуть, потрогать, коль не боишься звездного ожога. Светелка впечатляет особенно безлунными ночами, когда кругом повызвездит на сотни, сотни вёрст…
Соколинский поднялся на верхний ярус. Разулся в прихожей на коврике из голландской золочёной кожи.
Догорающий месяц на небе, увеличенный стёклами, расплескал парное молоко по полу – греет белыми струями, полощет пальцы, пятки щекочет. Приятно так, беспечно. Сидел бы и сидел, но звезды ждать не будут; никто их за тебя не сосчитает.
За горами слабая зарница трепыхнулась, приподнимая из темноты дальние кручи, поросшие лесом, покатый серебряный лоб ледника.
Соколиными зрачками впиваясь в небо, он заметил падучий огонёк у перевала – длинным завьюженным зимником выстелился в воздухе фосфорический тающий след…
Длиннополая рубаха Соколинского расшита узорами старинной звездной карты и знаками Зодиака.
Он облачился в рубище. Достал уникальные сапоги – небоступы, небоходы. Звёздная пыль переливалась на правом сапоге, после вчерашнего обхода осталась – не стряхнул, не заметил.
В углу стоит икона – старинная икона Пресвятой Богородицы «Благодатное небо».
Перед началом работы Звездочёт всегда молился, чтобы над ним Господь распахнул благодатное небо. Самозабвенно, усердно молился. Иногда перед началом молитвы небо над головою было туманным, тучевым, а под конец молитвы небо становилось благодатным. Помогает икона – священная.
Он собрался душой, приготовился телом. Перекрестился на икону, озарённую денницей – вместо свечи стояла за увеличительным стеклом светлицы.
– С Богом! Помоги и сохрани все звёзды над нашей державой!
Звездочёт давно уже освоил эту обувь – небоступы, небоходы. И все равно попадает впросак. Первые шаги у него всегда получаются «пьяными». Только стоило ногу поднять – ох ты, матушки! – он почти поплыл по воздуху, неуклюже размахивая руками и беззвучно посмеиваясь над своей постоянной забывчивостью: поосторожнее надо ходить в небоходах. Однажды так оттолкнулся – чуть выше Месяца не улетел.
Лестница-поднебесница, ведущая в зенит – такая же стеклянная, как светелка. Только стекло здесь совсем прозрачное, с добавлением мелко толчёного камня лазурита – обыкновенным глазом лестницу такую в небе не за метишь. Лазурное стекло – наподобие вулканического сплава. Крепкое. И молотком не растрескаешь.
Соколинский поставил ногу на ступеньку… И поскользнулся…
Курица внизу вдруг петухом запела. Недобрая эта примета загнала под сердце тревогу и страх. Соколиные зрачки расширились на мгновенье. Он плюнул через левое плечо. Курица не птица, что думать про нее, безмозглую.
Над крышами царских палат он прогулялся на цыпочках, боясь потревожить покой августейшего. Дальше – смелее. Дорога привычная… Прохлада за горло берёт в поднебесье. Он застегнулся на все пуговки, повеселел; воздух чистый, звонкий, пахнет вином и голову кружит. Благодать повсюду. Такая благодать, аж глаза рассыпаются – не знаешь, куда посмотреть.
Вот заря на востоке темноту перебарывает: кипящей киноварью течет по желобу ущелья. Вот маковым цветом закидало речную стремнину – дрожит, переливается, точно русалки вышли из воды с чудесными заморскими кораллами.
Разноцветные созвездья стоят вдали – букетами, цветущими полянами раскинулась звёздная мелочь; неземной аромат сбивает с панталыку пчелиный рой, в раноутренний час покидающий таежную пасеку.
Бледно-голубую травянистую «полянку» на небе взялись выкашивать невидимые горние косцы. А рядом – желтовато-красные зёрна по синему полю широко раскидывает поднебесный сеятель.
Западный склон планеты ещё в темноте; звёзды смотрят полными глазами, лучистыми ресницами подрагивают; отражаются в речных омутах, на плоскости горного Светлотайного Озера и в далёкой Фартовой Бухте, перепаханной ветром, – на чёрно-синих отвалах водяной борозды виднеются белые гребни.
А на другой стороне горизонта – мокрая щетина чернолесья, мерцающая густо, мрачно. К таёжным вершинам склоняется, будто принюхиваясь, Большая Медведица, одетая в шкуру светло-бурых облаков. Шкура дымится, до крови «простреленная» зарей. Берлогу Большая Медведица ищет – заберложить на день, отоспаться, раны зализать, чтобы к вечеру снова забраться на небо.
Всё выше, всё выше по лестнице шагает Звездочёт Звездомирович. Работу свою делает, а заодно любуется любимою страной.
3
Хрусталь-река внизу дрожит своим текучим длинным хрусталем. Деревеньки, сырые после дождя, сверкают, словно хрустальные…
Голоса в тишине раздаются – далеко, высоко:
– Ванька, вставай! Будимир когда ишо пропел?!
– А мне хошь буди-мир, хоть буди-война.
– Я вилы возьму, окаянный!
– Встаю, Манюнечка!
На вершине далекой горы остановилось созвездие Рака. Соколинский посмотрел на Рака, улыбнулся, слушая перепалку в крестьянской избе.
– Да когда ж ты встанешь, ирод?!
– Когда рак засвистит на горе.
– Спиртоносы проклятые! Как говорила: не связывайся ты с имями, не связывайся! А теперь лежит кверху воронкой, ждёт, когды рак засвистит…
Звездочёт Звездомирович сунул пальцы в рот и молодецким посвистом полосанул тишину деревенского утра… Иван упал с кровати.
Ого! – ошалело буркнул, потирая ушибленный локоть.
Что ты раком ползаешь? Кого там потерял? Бутылку ищешь?
Манюнечка, а ты разве не слышала? Свистели.
Свистнуть бы в ухо тебе сковородкой!
Манюнечка, гляди-кось… Рак ползет по полу! Откуда он? Манюнечка, смотри… Закуска есть, а выпить нету-ка…
Допился, хватит! Ну-ка, дай сюда игрушку, а то ещё правда сожрешь с похмелья. – Жена отобрала деревянного раскрашенного рака на цветных колесиках. – Как вчерась говорила, не пей, спозаранку подыматься, ехать нам!
А куда, Манюнечка, мы едем-то?
Здрассте, проснулся!.. Корабель сегодня прибывает из-за моря. Скупцы с товарами.
А-а! Вспомнил! Иду запрягать. В прошлый раз мы хорошо поторговали с заморышами.
– Кому хорошо, кому слёзы… Все деньги пропил да на табак заморский ухайдакал!
4
Вьётся путь-дорожка. Впереди синеет перевал. Из-за хребта в страну Святая Грусть захребетники едут. Пустая телега бренчит на камнях. Голодная лошадь едва-едва копыта переставляет (оглобля с правой стороны изглодана в щепки).
Подталкивать придётся!
Кого?
Кобылу.
Думаешь, сама не одолеет?
Сдохнет.
Да и чёрт с ней! Пешком пойдем, своруем где-нибудь хорошего коня!
Узкая дорога прогрызла перевал, деревянную спину прогнула над пропастью: чудом подвешенный мост дрожит и качается на воловьих и веревочных жилах.
Переехали мост, стараясь не глядеть в головокружительную пропасть, где лежит разбитая телега, белеют скелеты осла и лошади – до костей обглоданы зверьем и птицами.
Дальше – равнина. Точнее – горная степь. Дорога лоснится жирной змеюкой, за деревья, за кусты увиливает, прячется за дальними курганами, вспухающими по горизонту.
Лужа, грязь впереди. Копыта часто чавкают. Колёса хлябают, забытые хозяином; страшно скрипят, с каждым оборотом всё надсаднее жалуясь на непролазные хляби.
В телеге сидят Захребетники. Братья. Старшего назвали Захря, младшего Бетник. Ехать скучно. Братья подремали, теперь лениво переругиваются.
Захря, чёрт! Не слышишь?
Кого тебе надо из-под меня?
Когда ты смажешь колесо?
А ты когда?
Оно мне уже ухи ободрало. Скрежещет и скрежещет! Как будто пёс голодный кость грызёт!
– Тебе ободрало – тебе и смазывать.
Я вот смажу по сопатке, будешь знать.
А это как получится, братан.
Захребетники – народ бережливый. Выезжая в дорогу, ведёрко с дёгтем дома оставляют. Чернозёмная грязь на весеннем распутье краше любого дегтя.
Полчаса проходит. Захря самокрутку дососал до ногтей. Обжёгся напоследок и вместе с дымом проглотил дурохамское чёрное слово.
Правая рука у Захри шестипалая, за что его прозвали в детстве Шестипалым. Очень крепкая рука. Прямо звериная лапа какая-то. Страшная.
Левой рукой отбрасывая окурок, он остановил конягу резким движением правой.
– Ладно. Тр-р, стоять, – сказал. – Твоя взяла, братан.
Заунывная музыка смолкла. Захря поцарапал в ухе; самый маленький палец – шестой – засунул туда. Потом зевнул и сплюнул, рукава по локоть закатал, спрыгнул с телеги и проворно взялся дорожной грязью дегтярить колесо за колесом.
Братан в телеге лежал на пузе, плевал под задние копыта, усмехался, наблюдая за Шестипалым. Встающее солнце купалось в грязи, золотыми комьями сползало с пальцев, брызгало на сапоги. В придорожной мураве пичуга трепыхалась – то ли перепелка, то ли жаворонок, трава ложилась, как живая, и вставала, роняя росу…
– Во, совсем другое дело! – Захря повеселел, вытирая волосатые руки о широченный подол рубахи.
– Пошла, родимая! Но! Чтоб ты сдохла!
Втулки, забитые грязью, сыто заурчали на ходу. Не услышав привычного скрежета, кляча остановилась, покосила фиолетовым глазом на колесо. Шестипалая рука схватила кнутовище – полоса пролегла по хребту, по костлявому крупу. Лошаденка содрогнулась от удара – дальше потянула.
Слушай, Захря, я подумал…
Неужели? – перебил Шестипалый. – Ну, наконец-то он «подумал»!
Нет, братан, серьёзно. Что на этот раз мы будем врать Царю Государьевичу?
Да мало ли… Хата сгорела!
Хата у нас уже «горела». И разбойники нас уже «грабили». И «засуха» была. И «град», и «хлад» посевы наши бил. А теперь-то что?
Шестипалая рука погладила плешину, под которой теплилась тёмная мыслишка.
Есть у меня кое-какое соображеньице.
Ну?
Хоботок слону загну! Тебе скажи, напьешься в дорожном кабаке, разболтаешь первому встречному. Пока промолчу.
Молчи. Я и сам догадался. Бедняжка Доедала во дворце припас нам продуктов. Разных овощей… и вообще…
Как же, припас! Доедала – проглот ещё тот! Брюхо у него будет побольше, чем у слона. Нет, у меня надежда на царя. На добрую душу его.
Думаешь, не откажет?
А куда он на хрен денется?
Ну, дай-то Бог!
– Не Бог, а черт нам даст! – Шестипалый хохотнул и смачно сплюнул на придорожный лазоревый цвет. Слюна была такая – как будто ядовитая – цветок побледнел и завял, роняя лепестки.
5
Находясь под небесами, Звездочёт Звездомирович хмурился, глядя на заплёванный гибнущий цветок. Неужели Бог не видит? – подумал огорченно. – Как только земля их носит, паразитов таких?»
Неподалеку пролетел огненный шар – болид. Пропел комаром в тишине и укрылся за облаками. Тёплый воздух, сожжённый болидом, доплеснулся мягкою волной, обласкал человека.
«Хорошо хоть маленький, а то повредил бы мою поднебесницу, – подумал Соколинский. – Разоренье с болидами этими, метеоритами. Ловушку надо придумать для них».
Телега с захребетниками въехала на глиняный пригорок. Другие подводы с утра пораньше глину уже успели расколесить до кровянистой жижи, ручьями стекающей в канаву, а оттуда к реке.
Лошаденка почуяла что-то ужасное. Испуганно заржала и попятилась…
Огненный шар, по воздуху катящийся навстречу, ослепил животину и опалил угарною волной.
Пролетающий мимо болид неожиданно изменил траекторию, точно кто-то в небе незримою рукою подтолкнул его. Земля содрогнулась, принимая удар… Вода под берегом покрылась рябью… Взорванный пригорок лохмотьями взлетел по-над дорогой – трава, кусты… Разбитая телега на одном колесе захромала к реке, а лошаденка припустила рысью в другую сторону, зверовато храпя и взбрыкивая задними копытами, сдвоенными порванной вожжиной.
Захребетники, скуля и охая, распластались на дне свежевырытой ямы, слегка дымящейся по краям. Сломанная метка прилетела сверху. Запоздало шлепнулся кусок земли. Разорванный дождевой червяк зашевелился пред глазами оглушенного Захри. Личинка майского жука пополни по шестипалой руке, оставляя строчку на мокрых волосках.
Пошевелив языком, Захря выплюнул красную глину, смешанную с кровью, и, почему-то обращаясь к дождевому червю, хрипло спросил:
– Эй, братан!.. Живой?
Тишина. Вода в реке плескалась, потревоженная взрывом. Ворона каркала вдали. Голос откуда-то из-под земли:
– Живой… А может, помер, ох, не знаю.
Головы, руки и ноги захребетников истекали дымящемся красноглиняной кровью – казались покалеченными.
– Захря, – младший брат заплакал, размазывая красноватые слезы. – Ногу мою… ноженьку оторвало начисто!
Шестипалая рука очистила левый глаз от грязи.
Где? Что? – не понял Захря.
Да вон нога валяется.
Это сапог, братан!
Сапог? А я думал, нога… Ой, правда, на месте ноженька! И задница на месте! А я уж думал, все разворотило к чертям собачьим! – Братан повеселел, поднялся и потопал «оторванной» босой ногою, будто все ещё не веря, что она жива-здорова. – Слушай, Захря, а что это было?
Не знаю. Может быть, ядро из пушки.
Может, война?
Не похоже. Где армия-то?
– Землетрясение?.. Ты что смеешься, Захря?
Шестипалою рукой показывая на младшего брата, захребетник выдавил сквозь хохот:
Ой, ну и рожа у тебя! Страшнее чертушки!
Ты на свою посмотри – залюбуешься!
Теперь хохотали вдвоем. На четвереньки падали, повизгивали, тыча пальцами один в другого; себя по ляжкам хлопали ладонями… И хохотали, и хохотали… Это был какой-то нервный, нехороший смех.
Ну, хватит, – спохватился старший брат. – Что-то мы с тобою раскатяшились, как ненормальные. Контузило, что ли? Ты как?
Ничего, – отозвался младший брат, становясь серьезным. – Только башка немного… Будто с похмелья.
Возле реки поймали лошаденку с перебитым сухожилием. Хромала, плакала – слеза текла по шерстяной щеке, Шестипалою рукой Захря вытер лошадиную морду. О рубахи отодрал кусок – перевязал кровоточащую бабку; осторожно заломил ее, проверяя подкову, – слетела на счастье.
Он так и сказал, поднимая грязную подкову под берегом:
– На счастье нам! Теперь не надо ничего придумывать. Расскажем царю все, как было. Поди пожалеет? Неужели на ем нет креста?
Младший брат не слушал. Пялился на небо. Странно как-то пялился. Будто вывихнул глаза в левую сторону.
Гляди, гляди, – заметил он. – Мужик идёт по облакам!
Что ты буровишь? Голову, однако, повредил?
Ты посмотри…
Шестипалая рука подрубила встречный свет. Захря даже перестал дышать.
Не вижу ни черта.
Гляди правее месяца! Неужто…
Брось дурить!
Сурьезно.
Айда, умоисся в реке. Охолонешь, пройдет голова. Что? Шибко зацепило? Кровь текёт из уха.
Это глина… А мужик-то всё одно идёт по облакам. Идё-ё-ёт! – пропел «контуженый». – Неужели не видишь?
Старший брат вздохнул и согласился, не глядя в небеса, ругаясь дурохамским чёрным словом.
Вижу, вижу, правее месяца…
А кто это, Захря? Как думаешь?
А кто по небу ходит? Господь Бог, конечно.
6
Звездочёт Звездомирович сделал несколько быстрых движений руками, «подзывая» к себе облака и туманы.
Ветер зашумел внизу. Перистое облако взялось откудато, закрыло Соколинского, затуманило синий зенит.
«Увидели! – подумал он. – Это надо же!» Постоял на облаке, посчитал окрестные созвездья над головою и дальше направился, потеряв из виду братьев-захребетников.
Взрослые люди, отягощенные земными скучными заботами, редко видят в небе Звездочёта. В основном – после выпитой литры водочки или вина, после каких-то бурных потрясений, когда с человеком происходит нечто необъяснимое («третий глаз» рождается во лбу, так мудрецы говорят).
Чаще всего Звездочёт попадался и попадается в поле зрения здешних ребятишек. Детский глаз – волшебник, помимо хрусталика в детском глазу имеется ещё и алмазик; любую прозу жизни детский глаз преломляет в большую поэзию; с годами, увы, алмазик этот меркнет, разрушается потоками солёных слез, пылью и грязью далёких дорог; только очень и очень немногие способны сохранить волшебные глаза.
Эти счастливчики, отмеченные Богом, – подрастающая замена старику Звездочёту.
Есть у него на примете одно местечко, Соколинский частенько туда заглядывает.
Вот оно – Большое Самоцветное Село – маячит среди гор, среди зеленых долов. Река блестит излуками. Кривые переулочки возле реки оторочены полынями, чертополохом. Тесовые крыши. На трубах кудрявые дымники с петухами.
Обыкновенное как будто село. Но живут здесь люди необыкновенные – мастера самоцветного дела: камнерезы, ювелиры, серебрянщики. Не говоря уже о том, что именно отсюда, из Большого Самоцветного Села, на царский двор поставляют знаменитых будимиров – петухов, отличающихся изумительным самоцветным пером и самоцветным – самобытным – голосом.
Богдан Богатырь поселился на крутоярище. Сам богатырь и место выбрал богатырское – крепкий утёс над рекою.
Звездочёт спускается к земле – на три ступеньки.
Знакомое раскрытое окно увидел.
И сразу полетел из окна восторженный голосок:
Мамка! Смотри! Скорее! Из глубины дальней горницы глухо ответили:
Ну кого тебе снова? Дай поспать.
Вон дяденька идёт по небесам!
Ну и пускай себе идёт своей дорогой.
А кто это, маменька? Бог?
Может, Бог, а может, сата… – женщина хотела помянуть нечистого – поперхнулась вдруг, закашляла. Подай воды, Коляня. Вот спасибо.
А вчера он мне звёздочку дал поиграть.
– Кто?
А вон тот, который идёт по небушку.
О Господи, опять он за своё!.. – Женщина зевнула, туповато глядя в раскрытое окно. Посидела на кровати, поглядела на босые ноги с натруженными венами, пощелкала пальцами. Снова зевнула. – Коляня, окошко закрой, а то по полу тянет.
Я смотрю в окошко, мам. Давай-ка я лучше пимы принесу, чтоб не мерзла.
Ну, вот ещё! – мать усмехнулась, поднимаясь. – Буду я в пимах шарашиться, как баба старая. Чай, не зима на дворе. Ну, дак что тебе дядька-то дал поиграть?
Какой? А-а, который по небу идёт? Я на завалинке заплакал вчерась, когда ты ушла коровенку доить, а он возьми да кинь звезду… Прямо в полынь под окошком.
Ну? Так прямо и звезду?
Ну, может, звёздочку… не знаю. В полыни в этой, мамка, тама-ка сразу такие цветы зацвели – я ни в лугах не видывал цветочков эдаких, ни в стогу. И полыночек стал серебристый. Я поначалу думал, иньями обсыпало его. Потом сорвал, гляжу, а это сахар.
Кто это?
– Сахар. Истинный сахар. Чего ты смеёсся?
Богатыриха – ядреная, рослая.
– Саха-ха-ха! – откинув голову, хохотала она, пытаясь выговорить слово «сахар». – Саха-ха-ха… Ну, ты развеселил меня с утра пораньше! – угрюмоватое усталое лицо у женщины помолодело. Морщины разгладились. Смех отозвался огоньками в глубине зрачков. Маковый цвет на щеках проступил, как в семнадцать годочков.
Парнишка волчонком смотрел на неё. Мать болтуном его считает. Ладно.
– Ты куда, чертёнок! Стой! Босиком-то!
Коляня выскочил во двор – прямо в раскрытое окошко сиганул. Попал одной ступнею на колючки. Скривился на мгновенье, сделал губы трубочкой и выдохнул жаркую боль из груди… И заставил себя улыбнуться:
– Не веришь? Вот, гляди. Полынь?
Богатыриха перестала смеяться, чтобы не дразнить Коляню. Только живот предательски подпрыгивал у нее: там зарождался новый приступ смеха.
Ну, полынь, полынь, – сказала примирительно.
Правильно. А рядом – что? На, на, попробуй.
Коляня, да подь ты весь… Корова я тебе – траву жевать?!
Теперь Коляня прыснул; приободрился.
– Не боись, не отрависся. Я с нею чай хлебал вчерась, вот с этой травкой.
Женщина понюхала, недоверчиво приглядываясь. На язык попробовала серебристый нежный стебелёк.
– Сластит, – прошептала. – Это что же такое?
– Сахар, я же говорю!
Изумленная Богатыриха молчала.
* * *
Двигаясь дальше по небесной тропинке, Звездочёт улыбнулся, довольный своими проделками.
Сладкой звёздной пылью посыпанная полынь блестела под окошком деревенского дома – издалека было видно соколиному зоркому глазу.
Звездочёт не просто так заигрывал с Коляней; крепко надеялся, верил в него; с годами парнишка поднимется до самого неба – придёт на смену старику… И вообще он полюбил это богатырское шумное семейство.
Детей здесь было трое. Северя – старший. Василина – красавица. Ну и, стало быть, Коляня, частенько и подолгу засматривающийся в небеса.