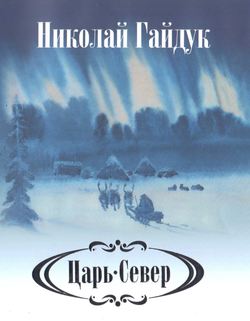Читать книгу Царь-Север - Николай Гайдук - Страница 3
Книга первая
Ветер
Оглавление1
Кольский полуостров – вотчина древнего Солнечного божества по имени Коло – оказался далеко не солнечным. Проливные дожди нещадно полоскали Мурманск, тугими прутьями хлестали по скулам серых домов, по садам, по сопкам, окружившим город. Дождинки со скоростью пули шарахаясь оземь, а точнее об асфальт – отчаянно подпрыгивали, точно пытались обратно заскочить на дождевую тучу… Капля за каплей собираясь в ручейки и ручьи, вода бурлила, стремительно скатываясь куда-то в сторону залива – через овраги, балки. Попадая в капканы и ловушки железобетонных колодцев, вода бесновалась. Мутная и грязная – вперемежку с газетной рванью, мусором и листьями – вода взаперти бунтовала так, что приподнимала и сворачивала в стороны чугунные шляпы, которыми были прикрыты колодцы городской канализации. Там и тут на дорогах возникли коварные дыры, из которых буграми валила вода, словно кипела где-то в преисподней.
В такую дурную погодку Антон Храбореев решил взять такси – доехать от вокзала до дома профессора Усольцева. Хотел, как барин подкатить, и вдруг…
Такси передним правым колесом влетело в мокрую пасть раззявленного люка. Шофёр, успев ругнуться, грудью стукнулся о баранку, а пассажир лобовое стекло едва не выбил своим лобешником.
Мотор заглох, машина чуть накренилась. И частый крупный дождь по крыше стал ходить – как жеребец подкованный.
– Приехали! – подытожил таксист, потирая ушибленную грудь. – Там, наверно, и тягу рулевую оборвало, и гранату… Мать перемять!
Какое-то время они понуро сидели в машине, курили, пережидая кромешный ливень.
– И часто у вас такое? – спросил Антоха.
– Бывает… – Водитель выстрелил окурком в приоткрытое окно. – Скоро пройдёт. Видишь, там…
Кучевые облака светлели где-то над просторами Баренцева моря. И начинали редеть грозовые чёрно-фиолетовые тучи, окружившие Хибины – самые высокие горы Кольского полуострова.
По мокрому асфальту впереди вдруг покатились золотые пятаки – солнце проблеснуло.
– Ну, что? – Храбореев усмехнулся, глядя на водителя. – Тебе тут загорать, а я пойду на автобус.
– Давай…
Антоха достал кошелёк.
– Сколько я должен, браток?
– Перестань. – Водитель поморщился, трогая ушибленную грудь. – Мы же только отъехали.
2
Профессора Усольцева дома не оказалось. Он был человеком непоседливым, неординарным – этот «заполошный» дядя Никанор. В молодости – будучи моряком – он почти всю Землю обогнул на пароходах. Потом с археологами что-то искал, копался на Кольском полуострове. Потом остепенился – ученую степень обрёл. Книжки стал писать о Русском Севере, и частенько уезжал в командировку.
Антоху встретила жена профессора – Виктория Витольдовна или просто Вика. Вот она-то и «обрадовала» с порога, сказала, что дядьки нет.
– А он телеграмму мою получил? – растерянно спросил племянник, стоя в прихожей.
– Да. – Виктория Витольдовна смотрела открыто, прямо. – Он просил, чтобы вы непременно дождались. Проходите… Снимайте одежду… Промокли?
– Есть маленько.
– Я вам сухое бельё сейчас дам.
– Не надо. Всё нормально. Что я – сахарный?
– Сейчас я чайку приготовлю. Согреетесь.
Храбореев, оставляя мокрые следы от носков, осторожно прошёл на кухню. Сел за стол. Головой покрутил. Какие-то «засушенные кости» желтели на стене – в деревянной рамке. Светло-синий, словно бы ощипанный петух раскрылатился на фарфоровой доске возле окошка с левой стороны.
– А надолго у него командировка? – тоскливым голосом спросил приезжий.
– Теперь уж скоро должны вернуться…
– А куда он укатил?
– Гиперборею ищет.
Антоха постеснялся спросить, только подумал: «Что за хреновина такая? Гипер…бодрее?»
Приподнявшись, он ногтем пощёлкал по фарфоровой доске с петухом.
– Разделочная, что ли?
– Доска-то? Ну, да.
– А что на ней разделаешь? Она же вмиг рассыпется.
Виктория Витольдовна улыбнулась – ямочки по щекам заиграли.
– Декоративная. Для красоты. Работа мастеров из Палеха.
Храбореев промолчал, но видно было, что работа этих мастеров ему как-то не очень…
– А вот эти вот засушенные кости? – серьёзно спросил он, глядя на рамку. – На чёрный день тут, что ли, приберегаете?
Жена профессора захохотала.
– Никанор мне говорил, что вы шутник… – Она пододвинула чашку. – Ну, давайте, поближе, поближе… И посмелее… Угощайтесь, Антон, налегайте. Вы же с дороги. Вам там удобно?
– Нормально.
– Да нет, я вижу, как вы ногами в стол упираетесь. Вы вот сюда, пожалуйста. Тут вам будет удобней.
В недоумении пожав плечами, Антоха перебрался на другую сторону стола и при этом едва не опрокинул чашку с супом – из чашки брызнуло…
– Ну, ёлки! – Он смутился. – Где тряпка?
– Ничего, я сама… Вы попробуйте. Как насчёт соли?
– Да всё путем, – пробормотал Храбореев. – Недосол на столе, пересол на спине.
– Как вы сказали? – Карие глаза хозяйки озарились полудетским изумлением. – Ой, как здорово!
– А что? – в свою очередь изумился Антоха. – Не слышали? Отец у меня так всегда говорит.
– Вы ешьте, ешьте… Как насчет температуры?
– У кого? У меня? Да нормально.
– Нет. Как я подогрела? Хорошо? Или, может, ещё?
– В самый раз.
– Вы говорите, говорите, не стесняйтесь. А то я Никанору погрею, а он…
– Да нет, всё путём, – хмуро сказал Храбореев, начиная терять аппетит.
Виктория Витольдовна – младший научный сотрудник – оказалась бабёнкой приветливой, но беспокойной до ужаса. Беспокойной и энергичной. Очень уж хотелось ей угодить дорогому гостю, чтобы ему было сытно, уютно и приятно в доме дяди Никона. «Профессорша» бегала по дому с тряпкой, подтирала. Потом включала пылесос, который выл при этом на такой заунывно-отчаянной ноте, как будто нервы на кулак наматывал. Потом хозяйка фартук надевала и вдохновенно суетилась на кухне: что-то варила, жарила и стряпала. Потом она рубаху чуть ли не силком содрала с Антохи – стирать. Потом носки потребовала.
«Придётся босиком бежать отсюда!» – невесело подумал Храбореев и, прихвативши профессорский зонтик, пошёл бродить по городу, изучать окрестности. Это он любил.
3
Город Мурманск, а точнее Романов-на-Мурмане – так назывался он тогда – оказался последним городом, основанным в Российской империи. Через полгода после революции это был уже Мурманск. Пустивший корни на скалистом восточном побережье Кольского залива, город пошёл разрастаться вдоль берега – одно крыло расправил в сторону моря, а другое в сторону материка. Первые дома здесь были – точно так же, как в большинстве молодых советских городов – элементарные деревяшки. Унылые, серо-зелёные, тюремно-барачного типа. Новые дома, конечно, тоже были – каменные туши поднимались там и тут. И вот что интересно: там и тут видны сады, палисадники, в которых полно берёз, одетых в красновато-желтые осенние платья. Рябины там и тут краснели, под ветром тугими кулачками постукивая по заборам.
У Храбореева это вызывало недоумение. Мурманск, этот крупнейший в мире город, находящийся за северным Полярным кругом, в глазах новичков создавал несколько обманчивое представление о Заполярье. Он смотрел на осенние листья, на красное мокрое мясо рябин, пожимал плечами и усмехался: «Ну-у, дядя! Зря только пугал! В таком-то Заполярье – чего не жить».
Он полюбил приходить на причалы. Душа замирала, когда Храбореев смотрел на большие красивые пароходы, впаянные в зеркало залива. Большая красивая жизнь чудилась ему на пароходах. Даже не на них самих, а там – откуда они пришли, куда опять уйдут, поднявши якоря. Запах моря, острый запах рыбы несказанно волновал Антоху. Он сидел в пивной – с хорошим, картинным видом на корабли. Пивко сосал, водчонкой душу баловал. Голова приятно чугунела. Стихи всплывали в памяти: «Каждый день я прихожу на пристань, провожаю тех, кого не жаль…»
Храборееву тоже хотелось уплыть – куда подальше. И он с какою-то сосущею тоскою вдруг подумал, что рано женился. Не перебродила в нем дурная кровь. «Может, моряком пойти? В торговый не возьмут, не протолкнешься, там народ в загранку ходит, большими деньгами ворочает. А на траловый нужны ребята, там надо пахать…»
Так однажды вечером сидел он возле окна, скучал. Смотрел, как дождь гвоздит по подоконнику – серебряными звонкими гвоздями. Прохожие скользили по мокрому асфальту. Изредка падали. Ветер подхватывал зонтики – будто крупные тряпичные цветы – теребил, закидывал в кусты. Один какой-то дурик побежал за своим «черным тюльпаном». Чуть под машину не попал. Легковушка резко затормозила. Резина противно заныла, досуха вытирая мокрый асфальт. Раздался приглушенный удар – и над капотом легковушки закудрявился пар из пробитого радиатора. Дурик, тот, что гнался за черным зонтиком, исчез куда-то. Разъяренный водитель выскочил. Растоптал ногами «черный цветок», лежавший неподалеку. Вскинул руки в небо и что-то прокричал. Присел, посмотрел на поломку. Легковушка свернула железное рыло о бетонный четырехугольный столб. Мотор не заводился. Водитель плюнул и пошел в пивную.
– Это не Кольский – это Скользкий полуостров, – сказал ему Антоха, когда водитель взял пиво и уселся – напротив.
– Да я бы ему ноги вырвал!
– Кому?
– Козлу тому… с черным зонтиком. – Водитель был – кудрявый здоровяк. Пивная кружка смотрелась как наперсток в костлявой волосатой лапе.
Разговорились. Здоровяка звали Софроном.
– Ну, и сколько ты будешь дядьку своего дожидаться?
– А что?
– Есть идея! – Софрон пустой пивною кружкой пристукнул по кудрям. – У меня весь чердак завален идеями! Ты знаешь, что такое Русская Лапландия?
– Слышал. Дядька рассказывал.
– Поехали. Работа есть.
– А кем я там буду работать?
– Дедом Морозом… – Софрон засмеялся. Он был языкастый, умел уговаривать. Нарисовал такую перспективу – коммунизма не надо.
Храбореев слушал, слушал и согласился.
– Чёрт с тобой! Поехали! Только давай ещё по сто. На посошок.
– Замётано! Люблю рисковых! – похвалил Софрон. – Сейчас я другу позвоню. Пускай он эту колымагу… – Здоровяк глазами показал на разбитую легковушку, – пускай заберёт и поставит в гараж. Некогда возиться. Я лучше новую себе куплю.
4
Рыбацкая артель затерялась где-то у черта на куличках – в дремучей, непролазной северной тайге. Добраться до Русской Лапландии, находящейся у берегов Ледовитого океана, оказалось делом сложным. Непогода придавила все вертолёты к земле. А шторм, разыгравшийся на реке, трое суток держал все суда на приколе.
Прибрежный поселок стоял на реке. Серые мокрые домики. Старая пристань. Якоря. Ржавые канаты – в локоть толщиной. Деревянное здание речного вокзала.
– Подожди, – сказал Софрон. – Пойду, попробую договориться насчет катера.
Антоха стоял у окна. Удивлялся: «Вот уж никогда бы не подумал, что на реке может быть такой штормяга!»
Ветер выворачивал тёмные волны – белой изнанкой. Седая шерсть летела шматками над водой, стелилась по кромке берега. Кусты и деревья поднимали ветки кверху – сдавались на милость ураганному ветру. Красный флаг на мачте парохода, стоявшего на рейде, разлохматило по краям. Молоденький моряк вышел на палубу. Ветер фуражку содрал с головы – швырнул за борт. Волны раззявили пасть – проглотили фуражку и отплюнулись бешеной белою пеной.
Антоха усмехнулся, наблюдая за моряком, двумя руками обхватившим «пустую» голову.
Сверху – с потолка – слетело перышко, плавно качаясь в воздухе. Воробьи и голуби, спасаясь от непогоды, проникли на чердак речного вокзала. Воркуя и чирикая, летали, садились на пыльную убогую люстру, напоминающую стеклянные рога оленя. Один какой-то «голубь мира» неожиданно вылетел на улицу. Промелькнул перед окном. Ветер подхватил его и шарахнул о телеграфный столб. Серой скомканной тряпкой голубь упал на асфальт. Теряя перья, покатился по лужам, перевалился через бордюр. Проехал грузовик – и на дороге осталось только мокрое алое пятно.
Храбореев брезгливо скривился, отворачиваясь от окна. И вдруг – непонятно зачем – заставил себя выйти на крыльцо. Ветер пытался повалить его, толкая то в грудь, то в спину. Храбореев, широко раскорячившись, стоял – как памятник. Ветер на мгновение ослаб, точно попятился. И Антоха засмеялся, глядя вверх. С крыши речного вокзала ветер пытался сорвать плохо прибитый жестяной лоскут. Жестянка билась о деревянные ребра стропил, взвизгивала, будто живая. Тревожно было; казалось, и тебя – как того голубка – подхватит под крылья, потащит по асфальту, приподнимет и ахнет – только мокрое пятно останется. И в то же время сердцу было хорошо. «Давай, давай! Посмотрим, кто – кого!» Храбореев, прищурившись, глядел вперед с мальчишеским задором и отчаяньем. В груди натягивалась тонкая звенящая струна.
Ему пришёлся по душе этот борей – северный бешеный ветер. Понравилась кипящая река, низкое небо, лохматыми лапами хватавшееся за горы. Понравился даже неприглядный северный поселок. Серый, скучный, ободранный какой-то; придавленный величием дикой природы, привлекавшей романтиков, бродяг, поэтов, искателей приключений и длинного советского рубля.
Север, как ни странно, приглянулся ему – своим свирепым гостеприимством. Храбореев, кажется, давно уже подспудно искал для души нечто подобное, чтобы почувствовать себя крепким мужиком.
На речном вокзале в тихом уголке сидела старая женщина.
Рядом – на узлах, на телогрейке – лежал парнишка. Подойдя поближе, Храбореев услышал дивный северный сказ, похожий на колыбельную песню. Женщина рассказывала русоголовому мальчику про какую-то могучую птицу-бурю, сказочную птицу, живущую на «море-океяне». Большая птица, с железным носом, медными копями. Птица-буря крыльями своими поднимает сумасшедший ветер…
5
Сильный ветер подхватил его! И понесло, помчало, покатило Антона Храбореева по землям и водам Русского Севера. И он потом неоднократно вспоминал печального поэта, может быть, случайно, а может быть, и нет оказавшегося уроженцем Русского Севера. Гонимый жизнью, поэт вздыхал:
Как будто ветер гнал меня по ней –
По всей земле – по селам и столицам,
Я сильный был, но ветер был сильней,
И я нигде не мог остановиться!
Через полгода Храбореев покинул Кольский полуостров. Уехал в Архангельскую область. Вкалывал на озерах, на реках. Рыбу ловил, древесину сплавлял. Так продолжалось года три. Он зашибал добротную деньгу, выпивал на радостях и посылал куда подальше тот промозглый Север. Жил какое-то время на родине, в Туле. Затем опять душа зудела и звенела, звала в дорогу. И Храбореев уже стал догадываться: дело не в деньгах. В Туле тесть нашел ему прекрасное местечко. При окладе, при власти. При теплом унитазе. Отказался. Поехал на Север, даже сам удивлялся: неужели правда Полярная звезда – небесный Кол, вокруг которого все на свете вращается?
За три года странствий он посетил много прекрасных и печальных уголков Русского Севера. Был в тех местах, где затравленные церковью и властью старообрядцы годами прозябали в ледяных могилах северных острогов, перебиваясь день за днем крошкой хлеба да глотком воды. На северной реке Пинюге видел остатки разрушенного старообрядческого скита. Кое-где перед избами ещё стояли восьмиконечные листвяжные кресты, казавшиеся металлическими – топор отскочит, если рубануть. Рукой снимая занавеску паутины, Храбореев заходил в сумрачные сени, где стояла вековая домовина, приготовленная к смертному часу. В избе висели медные потускневшие складни, кожаные чётки. И в той загадочной дали сердце Антохи обжигалось диковинным чувством родства. Как будто он здесь жил когда-то. Как будто здесь – его далекая прародина.
6
В Мурманске, встречаясь с дядей Никанором, племянник затевал разговоры о Севере; в нём пробуждался живой интерес.
Однажды поехали поохотиться на озера. Наблюдая за птичьими караванами, Антоха сказал:
– Интересно, и чего они, как дурные, каждую весну летят на Север? Ну, человек – понятно, за деньгами… А птица? Сидела бы на юге, брюхо грела.
– Генетическая память, – ответил профессор Усольцев. – Генетическая память гонит птичьи стаи на Север.
– Что за память такая? – Антоха не совсем понимал заумный язык «остепенившегося» дяди Никанора.
Профессор привел пример.
– Возьмём тебя, или меня. Оба мы родились в деревне. Так? Мы помним деревенский дом. Теплый, добрый, бревенчатый. Там было хлеба полно. Там была материнская ласка. Сказки. А затем пришли другие времена. деревенский дом сломали. Сровняли с землей. А вместо него – построили каменный дом. И теперь тебе, Антоха… или мне… Теперь нам незачем туда лететь. И далеко. И накладно – билет дорогой. Но память, память, милый мой племянник! Генетическая память говорит нам: ах, как было в той избе нам хорошо, какое счастье мы там испытали! И мы с тобой, Антоха, собираемся и летим за тридевять земель. Вот какая штука получается!
Пример был убедительный. Доходчивый.
Храбореев задумался. Верхней губой до носа дотянуться попробовал.
– Дядя, ты хочешь сказать, что на Севере было когда-то тепло, уютно?
– Это не я говорю, дорогой мой. Это доказано учеными. Раньше климат Арктики был мягким. А Северный Ледовитый океан был теплым. Правда, очень давно. Пятнадцать или тридцать тысяч лет до нашей эры.
– Ну-у! – засмеялся племянник, перезаряжая двустволку. – У меня такие цифры в башке не помещаются.
– Поместятся, если будешь этим вопросом интересоваться.
– Меня пока другие цифры интересуют, – признался Антоха. – Зарплата.
– Ничего, это пройдет. Как золотуха.
– Думаешь?
– Да я уверен.
– Может, и пройдёт, а пока… – Храбореев посмотрел в заманчивую даль. – Хочу рвануть в Якутию.
7
Якутский дикий Север полюбился ему, как ни странно. Буровые вышки, забурившиеся в недра вечной мерзлоты. Его поразили фантастические факелы, бесконечно греющие стылое небо, чтобы оно, «не дай Бог, не лопнуло, не треснуло по швам», как объяснял один электросварщик. Якутский Север много дал ему. И речь теперь уже не о деньгах. О душе. О крепости духа. Храбореев заматерел в Якутии. Здесь он впервые – в упор – глянул смерти в глаза.
– Ничего, симпатичная баба! – говорил позднее мужикам.
– Надо было под бочок подсыпаться! – Смеялись.
– К ней-то? Всегда успеется.
Хорошо жилось ему у нефтяников на буровой. Только бригадир попался нудный. С гонором. Бригадир Бадягин падкий был на подхалимов. Любил, чтобы ему «шнурки завязывали», кланялись. На этой почве Храбореев с ним поссорился однажды и послал бригадира – подальше. Бадягу этим не удивишь. В рабочей среде да на Севере матерками крепкими зачастую греются, как крепким чаем. Бадягу поразило и глубоко оскорбило другое.
Храбореев, перед тем как «посылать», рассказал всей бригаде нефтяников про дядьку своего, профессора Усольцева, который занимается загадками и тайнами Русского Севера.
На Кольском полуострове на Сейдозере есть огромная скала Куйвы. И там изображено какое-то человекоподобное гигантское существо… Мужики, представляете, какой у него инструмент? Слышь, Бадяга?
Нефтяники заржали. Бригадир стал бледнеть.
– Ты хочешь сказать, что посылаешь меня…
– Боже упаси! Бугор, ты про меня плохо думаешь. – И Храбореев продолжал: – А недавно ученые сделали открытие. На юге Австралии… Слышишь, Бадяга? Запоминай адресок. Там, пролетая над пустынным местом, летчик с высоты трех километров обнаружил фигуру гигантского существа… Рисунок, мужики, длиной в четыре километра.
– Ого! А какой же… Кха-кха… инструмент у него?
– Двести метров.
Нефтяники в красном уголке со стульев попадали (собрание было).
– Что вы ржете? – одернул Храбореев. А в глазах играли чертенята. Он посмотрел на бригадира. – Бадяга! Ну, теперь ты понял, куда нужно идти? На двести метров!
Мужики от смеха плакали. Тряслись.
Эти «двести метров» Бадягин ему не простил. Через месяц у Храбореева срезали премиальные. Антоха выпил и дал «в пятак» бригадиру, похожему на сытого борова. Драчуна уволили. Когда он уходил – бригада руку жала тайком и шептала: «Молодец. Хорошо припечатал». Храбореев без особого сожаления покидал буровую. К тому времени он уже освоился на якутском Севере. Перебрался в бригаду газовиков. Голова и руки у Антохи были на месте, работы никогда не боялся. Газовики зауважали, стали звать по имени-отчеству.
– О! Так вы – Северьяныч?! – воскликнул молодой конопатый мастер участка.
– Ты так обрадовался, будто встретил родню!
– Северьяныч, – улыбался конопатый, глядя поверх очков, – это вроде бы как… настоящий, северный человек.
– А ты сомневался?
– Нет, но когда увидишь документ, – отшучивался мастер, – доверия все-таки больше.
Храбореев поймал на слове:
– Если доверия больше, так и денег должно быть побольше.
– Так-то оно так. Можно было бы вас, Северьянович, по ставить старшим в вашей смене, но… – Конопатый сквасился и развел руками. – Вы вот, например, не партийный.
– А я вступлю! – пообещал Храбореев. – Мне что в партию вступить, что в г…
Мастер сделал вид, что не услышал богохульства.
– Да к тому же, говорят, вы неженатый.
– Брешут! Я – неоднократно холостой, – сообщил Храбореев.
Мастер снова поглядел поверх очков.
– Первый раз такого вижу…
Ему, «неоднократно холостому», несладко приходилось без жены. Всё думал, всё надеялся Марью подтянуть на Север. Она была не против, только жить, увы, негде. Насчет квартиры – глухо. Сам Северьянович кантовался в балках, вагончиках. Даже в туристических палатках – летом в тайге. Деньги он регулярно Марье высылал. Письма изредка царапал. Напоминал о Москве, о клинике, в которой надо подлечиться. Но Марье было некогда – пропадала в школе. И Храбореев стал понемногу злиться на неё: «Что тебе – школа дороже? Или здоровье? Годы уходят. Скоро вообще родить не сможет».
Душа у него остывала к Марье. Может, Север остужал любовь, а может… трудно разобраться. В общем, стал он присматриваться к незамужним девицам. А холостячки на Севере – к мужикам присматриваются. Так что там – кто кого «переприсмотрит». Игра для взрослых.
Шальные деньги позволяли нефтяникам и газовикам так «газовать» – северному небу временами жарко становилось. Храбореев и сам не заметил, когда у него изменилось отношение к деньгам. Сорил во хмелю – как бумагой.
* * *
Бабником он не был никогда, поэтому нервничал, когда знакомился. Балагурил, старался казаться бывалым, тертым. Все ему нипочем, все «до фени и до фонаря». А у самого под жидкой бороденкой (недавно обзавелся) румянец помидором созревал. Трезвому было нелегко, а то и бесполезно заводить знакомство. А когда маленько засандалит – совершенно другой коленкор.
Будучи буровиком, он как-то забурился в ресторан «Простор». Увидел чернобровую молодую буфетчицу. Приободрился.
– Куколка! Дай мне курятины. – Глазами на витрину показал.
– Какой курятины?
– Цыпленка-табака.
Буфетчица уставилась на него – как на новые ворота.
– Курево, что ли?
– Люблю догадливых! – Он откровенно рассматривал смазливую бабенку. Румяная. Сдобная. Жаром так и пышет, как деревенская печка, от которой пахнет щами и оладьями.
Северьянович был «ужаленный» стаканом чистого спирту.
Смелый.
– Как зовут?
– Евтихея.
Он цокнул языком.
– Тихая, значит? Тихее некуда?
– Не буйная.
– Это радует. Это, можно сказать, настраивает на лирический лад. Я сам – как птица-буря! А жена в избе должна быть тихая. – Он что-то вспомнил. – А ты случайно не с Биробиджана? Нет? А то ведь раньше Биробиджан назывался – станция Тихонькая.
– Может быть… Хи-хи… Не знаю.
Она ему строила глазки. А буровик строил из себя про жженного пижона. Воображаемый хвост распушил. Как глухарь на току. Забойчился.
– Тихея! Ты, как я понял, одинокая мадам?
– Вдова, – скромно улыбнулась буфетчица, сверкая передним рядом золотых зубов. – Муж погиб…
– Надеюсь, не в постели?
– На охоте.
– Это хорошо. Тьфу, что я говорю? Чего хорошего?
Тихея опять засмеялась – шире, громче и откровенней. И другие зубы у нее оказались отлиты из золота, заметил Северьянович. И сказал:
– Золотая моя! Мы же взрослые люди. Ты – холостячка. Я – неоднократно холостой! – Он пошлепал грязным сапогом по полу. Разрешите вас пригласить на вальс… Что вечером?
Какие планы, золотая? Когда и где встречаемся?
– Так прямо сразу? Быка – за рога?
– Корову, – улыбнулся он. – С вашего позволения.
И опять буфетчица засмеялась. Глуповато как-то. Неестественно. В глубине души это покоробило Северьяныча. Но он же сам виноват: шутил бы поумнее – она бы и смеялась «поумнее». Так ведь?
– Вообще-то на сегодня у меня другие планы…
– Отставить! – Он решительно взмахнул рукой и вспомнил чью-то пошлую фразу: – Я подарю тебе небо в алмазах, а на большее ты не рассчитывай!
Вечером встретились. Храбореев приволок беремя «стеклянных дров». Бутылки нес в охапке, словно поленья. «Дровами» этими он собирался спалить остатки совести. Он ведь еще ни разу не гулял на стороне. Поэтому – слегка потряхивало, когда он пялился на загорелую грудь официантки – в большой разрез кофточки, на ягодицы, туго обтянутые юбкой. Гужевались до утра. Буфетчица Тихея – тихее некуда – радушно подливала и подливала. Предлагала звонкие, красивые тосты. И Храбореев в конце концов забыл, зачем пришел. Сломался, даже не добравшись до постели. Утром встал. Осмотрелся. Обшарпанная комната в общежитии газовиков. Его, Антохи, комната. Голова – как чугунная гиря, только с глазами. Собрался похмелиться – в карманах пусто (после получки). Он позвонил в ресторан. Тихея сказала, что Антоха вчера вызвал такси и уехал к себе в общежитие. Говорила буфетчица скомкано, быстро. Некогда ей. Народ у прилавка толпится.
Стыдно и противно стало Храборееву. Припоминая подробности знакомства, он сначала покраснел, а потом белыми пятнами покрылся, как обмороженный. «Рваный» рубль занял у знакомых и пошёл, опохмелился. Кулаки отяжелели. И захотелось ему заявиться в ресторан, разгромить буфет к чертовой матери… И в то же время думалось: «Кто виноват? Сам искал приключений на задницу, вот и нашел. Успокойся. Сходи еще в милицию: так, мол, и так, баба опоила, обобрала… Муж у нее погиб! – Храбореев зло скривился. – Неизвестно еще, как погиб… Надо радоваться, что хоть живой остался! Деньги – черт с ними, заработаешь… Фраер! «Я подарю тебе небо в алмазах, а на большее ты не рассчитывай!» Подарил? Вот и сиди теперь, грызи сухарик.
Он оставил попытки познакомиться с холостячками.
Но через какое-то время ему повстречалась задушевная Люба Дорогина. Черноглазая застенчивая девушка с Валдая. Покусывая мундштук папиросы, он смотрел на жиденькие волосы девушки. Насмешливо думал: «Ах ты, милая валдайская овца. Шерсть не отличается хорошим качеством, но мясо – хорошее!»
Храбореев ёрничал. Смущался в глубине души. Верхней губой до носа дотянуться пробовал – привычка с детства, означающая крайнюю степень волнения. Он сам себе сказать боялся, что влюбился. «Прямо – как в кине!» Перед Любой он уже не паясничал, не строил из себя пижона и сердцееда. Был сам собой и не стеснялся называть её валдайским колокольчиком – за звонкий чистый смех. Большеглазая Люба прописана была в женском общежитии. Северьяныч назначил свидание. Памятуя печальную встречу с официанткой, в гости он пошёл без денег, без выпивки. «Вот так-то, – ухмылялся, поднимаясь по лестнице. – Нечего с меня сорвать. Кроме трусов».
Жаркая ночка была. Очень звонкая. У Любы в изголовье находился подарочный набор валдайских колокольчиков. Упал с кровати, раскатился по всей комнате. А вслед за тем подарочным набором – чуть кровать не развалилась.
Утром Храбореев опоздал на вертолёт, развозивший рабочих по вахтовым поселкам.
«С этими бабами… – он разозлился в аэропорту. – Как свяжешься с ними, так обязательно что-нибудь…»
Слоняясь по аэропорту, не зная, как теперь быть, что предпринять, Храбореев встретил знакомого пилота. Покурили, поговорили.
– Добраться до посёлка? Можно. Только осторожно, – загадочно сказал пилот. – Если узнают, что взял постороннего – голову снимут с меня.
– А что уж так-то?
– Груз… – летчик сделал непонятную гримасу.
– Что за груз?
– Будешь спрашивать – точно останешься тут куковать.
– Всё. Я заткнулся.
Знакомый пилот пошел на выход.
– Иди к воротам. Там стоит машина. Скажешь – от меня.
Садись и жди.
– А сколько ждать-то?
– Покуда рак не свистнет на горе! Тебе надо лететь или нет?
– Ну, о чем разговор?
– Полетишь. Только это… Зайцем полетишь. Не положено брать пассажиров.
Храбореев обрадовался:
– Мне хоть зайцем, хоть волком. Хоть чемоданом из крокодиловой кожи… Мне бы только к ребятам попасть! Я же обещал им, ёлки… И проспал. Понимаешь, завел будильник, а баба выключила…
– Про бабу расскажешь потом. Бегом к воротам.
8
Полетели. А времечко было весеннее, снеговьё по всему безграничному Северу так разгорелось, так располыхалось – зеркалом слепят, аж глянуть больно. Ручьи на пригорках верещать начинают. Туманы по утрам над горами пластаются. А по ночам ещё морозы давят – только треск стоит. Весенняя погода крутит, вертит, сама не знает, чего ей надо, как беременная баба.
Взлетели – всё было нормально, а через полчаса из-за перевала снежный заряд шарахнул. Как из пушки ударил. Видимость пропала – до нуля.
Вертушка на перевале зацепилась колесом за дерево. Клюнула носом, упала. Но как-то так удачно пропахала по снежному склону – мягко проехала, не разбилась. Может, потому что высота небольшая – сильного удара не было. Но, тем не менее, вертолет развалился, будто карточный домик. И пилоты – им досталось больше других – без сознания оказались. И еще один мужик – сопроводитель груза – тоже без памяти свалился в сугробе.
Уже вечерело, морозило. Храбореев почти сразу прочухался. «Надо срочно костер!» Подумать-то подумал, а ноги повредил – идти не может. Только ползком, да на карачках. Он осмотрелся. Запасные топливные баки с керосином были близко, как тот локоть, который не укусишь. Как добраться до керосина? Черт его знает. Боковое окно кабины было разбито. Северьянович собрал осколки оргстекла. Потом какие-то мешки увидел на снегу. Поползал, наломал сухих ветвей. Распорол ножом мешок и в темноте не разглядел, что за бумажки. Да и некогда было разглядывать. Даже если это самые секретные государственные документы – плевать. Он обрадовался. «Бумага! Да много!» Потряхивая контуженой головой, Северьянович развел огонь. Нашел веревки, похожие на парашютные стропы. Обвязал сначала одного пилота – подтащил к костру, второго. Затем добрался до человека, сопровождавшего груз. Человек тот – по фамилии Дятлов, Дятел, как его звали – оказался щупленьким, легеньким и, судя по всему, не шибко пострадал. Как пушинка отлетел от вертолета, упал на хвойные ветки.
Дятел прочухался первым. Посидел возле костра, помахал надорванными крыльями – меховая куртка по швам разодралась под мышками. Глаза у Дятла мутные, и всё время шарят по сторонам, что-то выискивают. Протягивая ладони, греясь у огня, Дятел неожиданно повеселел. Запел:
В саду горит костер рябины красной,
Но никого не может он согреть…
Он замолчал. И вдруг серьезным стал. Глядел, глядел в костер «рябины красной». Глаза расширились. Он ужаснулся, наблюдая за бумажками, корчившимися в огне. Пощелкивая клювом на морозе, Дятел что-то прошептал. Побледнел. Схватил себя за волосы и тихонько взвыл, запрокидывая голову к луне, восходящей над горами…
Северьяныч испугался: «Как бы этот Дятел в бешеного Волка не превратился!»
– Браток, всё нормально, – сказал он. – Живые. Что ещё надо?
Браток, не говоря ни слова, поднялся да как по уху треснул Храборееву!
– Что ты наделал, курва?!
Антоха отлетел. Чуть не в костер.
– Дятел, падла! Ты что?
– А ты? Что ты наделал?!
Северьянович поднялся. Вытряхнул снег из уха.
– Я пуп надорвал, вытаскивая лётчиков и тебя, дурака. Вот что я наделал. А ты мне в знак благодарности чуть не пробил перепонную барабанку… – Храбореев заговорился.
– Ты посмотри, что ты палишь!
– Костёр…
Дятел зажмурился и заплакал, обхвативши голову руками.
И только тут до Северьяновича дошло. Присмотрелся:
– Е-моё… Деньги? – Он поднял два инкассаторских мешка с надписями «Государственный банк СССР».
Дятел вытер свой сопливый клюв. Сунул руку за пояс. Там находилось оружие.
– Положи мешки на место! – крикнул сопровождающий. – Теперь это вещественное доказательство.
Храбореев увидел пистолет. Попятился.
– Э, дурило! Убери… Оно ведь стрельнет…
– Обязательно, – согласился Дятел. – Не это, так другое стрельнет.
Северьянович настороженно смотрел в черный глазок ствола.
– Какое другое?
– А тебе не понятно? За эти два мешка тебе припаяют вышку!
– Какую вышку?
– Буровую! – Дятел хмыкнул. – Ты козлика невинного из себя не строй. Все ты прекрасно понимаешь…
– А ты не понимаешь? Я нарочно?
– Не имеет значения.
– Как это – не имеет? Если бы я их прокутил по ресторанам – это одно… Вот лежал бы я сейчас без сознания, деньги были бы целые, и ты был бы в целости и сохранности. Молодой красивый труп. Тебя это устраивает?
– Но деньги-то! – взвизгнул сопровождающий. – Деньги зачем спалил?
Храбореев молчал. Искал убедительный довод.
– А зачем ты песню пел сейчас? «В саду горит костер рябины красной»?
Дятел несколько секунд непонимающе смотрел на него.
– Я ничего не пел.
– Ага! – Северьянович палец поднял. – Значит, не помнишь ни черта. Вот так и я. Прочухался и давай палить костер какими-то бумажками… А если бы я не спалил эти деньги? Что было бы? И я, и ты замерз бы, и пилоты… – Он посмотрел на летчиков; они уже прочухались и пошли рацию налаживать, чтобы выйти на связь. – Все бы мы подохли! – подытожил Северьянович. – Что тебе дороже? Люди? Или вшивые бумажки?
– Эту пламенную речь ты скажешь на суде.
– Скажу, конечно. Только ты убери свою пушку! А то я тебя снова зарою в снег! Зараза! Угрожать он будет… Я его спас, а он по уху… До сих пор звенит…
– Да не в ухе у тебя звенит, – ядовито подсказал сопровождающий – За пазухой. – Дятел пистолетом показал на мешочки с серебряными монетами. – Натырил, однако? Успел?
– Дурак ты. Дятел и дятел. Что с тебя взять? – Северьяныч сунул руку за пазуху и достал оттуда… валдайский колокольчик. Позвенел под ухом у себя и засмеялся, обескураженный. – Ну, Любка! Ну, баба! И когда только успела, окаянная!
9
Был суд. Вину Храбореева не доказали, но и дело не закрыли. Необходимо было заключение медицинской комиссии: Храбореев после авиакатастрофы, после сотрясения мозга, мог действовать неадекватно. Северьяныча таскали по разным комиссиям в городе; клубками проводов опутывали, какие-то датчики подключали.
– Ну и что там? – тревожился Храбореев.
– Вам это знать не положено, – многозначительно говорил ему человек в халате.
Неизвестно, чем бы всё это закончилось. И хорошо, что был знакомый адвокат; он по-свойски шепнул Храборееву, что делать.
– А искать начнут? – засомневался Северьяныч. – Розыск объявят? А?
– Ну, как знаешь! – отмахнулся адвокат. – Жди у моря погоды.
Выбирать не приходилось. Храбореев быстренько затолкал своё добро в старенький брезентовый рюкзак и улетел. (Дело вскоре замяли.)
А перед тем как улететь, он заглянул в общежитие, Любу Дорогину увидеть хотелось. Но Любушки не было. Или переехала куда-то, или совсем на Валдай укатила – толком никто не смог объяснить.
И вот с той поры Северьянычу время от времени снился удивительный какой-то сон.
Отчётливый сон открывал перед ним горизонты – безграничные, иногда засыпанные звёздами, иногда окрашенные киноварью закатов или рассветов. По дорогам, идущим через горы и степи – по дорогам тяжким, бесконечным – он шагал искать страну Гиперборею. Долго, трудно искал – все ноги избил и всю душу изранил. И голоса уже седая у него. И потерял он уже всякую надежду. И вдруг – на тебе! Нашёл! Там – хрустальные горы мерцают, ледяными «клювами» достают до небес. В долинах – изумрудные деревья, малахитовая мурава. Странные цветы горят во мраке, напоминая сибирские жарки. Только это вовсе не жарки. Северьяныч подходит, наклоняется над сказочным цветком, осторожно касается. И происходит что-то невероятное. Цветок под рукой у него вдруг начинает разгораться и позванивать. А когда он повнимательней присмотрелся – это вовсе даже не цветок. Это – золотистый колокольчик с надписью «Дар Валдая». Но колокольчик не простой, не поддужный, какие раньше были на русских тройках, нет. Колокольчик этот не звенел, а смеялся, да, да. Колокольчик – если его чуть потрогать, погладить – начинал в тишине беззаботно смеяться нежным зазвонистым смехом синеглазого мальчика.
«И что бы это значило?» – просыпаясь, думал Северьяныч. На сердце было и тревожно, и светло.
10
Весна озорничала в полях, в лесах под Тулой. Тёплый ветер, пахнущий первой зеленью, душу баламутил и весело тревожил. Соловьи «горстями» рассыпали серебро в садах и рощах. Северьянович поехал к своим родителям – двадцать пять километров от города. Вышел на росстани (шофер помчался дальше). Разулся и пошлёпал босиком. Красота! Он шел и думал: «На белом свете много прекраснейших дорог, но самая шикарная, одетая цветастыми шелками – это, конечно, дорога на родину, дорога к той золотой избе, где ты сто лет назад был несказанно счастлив…» Он подолгу задерживался в полях. Слушал землю и небо. Смотрел. Даже не смотрел, а – созерцал. После морозной, метельной жизни «на северах», он совершенно иначе стал воспринимать природу. Радовался каждой букашке. Умиляла каждая былинка и росинке. Север как будто содрал с него старую шкуру – дублёную, и теперь он жизнь воспринимал оголёнными нервами.
Старики – родители Марьи – тоже в деревне под Тулою жили.
– Картошку надо помочь посадить, – сказала жена.
– О чем разговор?! Я своим уже помог. Посажу. Нет вопросов! Ни один прокурор картошку не посадит так, как я…
Марья улыбалась, глядя на мужа. Удивлялась переменам в его характере. «Какой-то он… как ветер, – думала. – Вольный. Шумный. Как ребенок радуется первому цветку. Наверно, так и надо. А мы привыкли, мало ценим то, что рядом». И в то же время Марья заметила: он какой-то покладистый сделался; что ни попросишь – «мухой» летит, исполняет любое желание. И за этой покладистостью Марья женским сердцем чуяла что-то недоброе. Это – как затишье перед бурей. «Нашел, видно, кого-то! – подсказывало бабье чутье. – Колокольчик какой-то в кармане под сердцем таскает».
В деревенском огороде Храбореев азартно взялся за картошку. Увлекся так, что черенок у основания хрустнул – лопата «наизнанку» вывернулась. Пришлось на новый черенок насаживать. Новый был шероховатый, в занозах. Северьянович взял стеклянный осколок – до зеркального блеска наяривал. И всё было в радость ему: лопата, картошка, скворцы, вразвалку шагающие по огороду в поисках червей.
После огорода – баня. Святое дело. Он взялся чурку расколоть – дровец для бани. Опять увлекся и давай долбить, только шум стоял – поленья кувырком летели по двору.
– Бросай! Ну тебя к лешему! – издалека закричал Дорофей Николаевич, тесть, не решаясь подойти поближе: как бы полено в лоб не прилетело.
– На зиму надо все равно! – ответил Храбореев.
Тесть отмахнулся:
– Завтра!
– А завтра мы забор подладим. Он у тебя кривой, как сабля.
Дорофей Николаевич, качая седой головой, похвалил:
– Ох, и дурной же ты, Антоха, на работу!
– А я не только на работу, я вообще дурной.
– Бросай! Там баня уже, поди, готова.
Храбореев страсть как соскучился по хорошей деревенской бане. Неторопливо, вдумчиво таскал речную воду. Печку разжигал неспешно. Долго вслушивался в то, что она ему рассказывала красным языком… Прикрывая глаза, блаженно нюхал банный веник, наслаждался ароматом березы. Когда баня поспела – до угара парился. В реке плескался. И всё – как будто в первый раз. Как только что родился. «Это Север научил меня любить! – улыбался он. – Истосковалась душенька по простым житейским вещам, на которые люди не обращают внимания».
Поехали обратно. Жена спросила, когда проезжали мимо Тулы:
– Что решил? Насчет завода?
– Пойду, наверно, блоху подковывать, – сказал. – Надоело на вечной мерзлоте зубами клацать!
Избу на Колдовском они продали. Дом купили – рядом с Тулой. Северьянович по-прежнему был «помешан» на рыбалке и охоте. Про завод поговорил – забыл. Целыми днями пропадал на озерах, на реке. Добычу привозил – охапками. Марья не могла уже смотреть на убитую птицу.
– Куда ты колотишь? – поморщилась. – Холодильник полный… Мне её жалко. Хватит. Не стреляй.
– Ах, какие мы, блин, сердобольные! – Храбореев умылся после охоты. Переоделся. Книжку в руки взял – недавно в городе купил. – Вот, послушай. «В июне 1823 года, – стал читать Северьянович, – в районе северо-восточного побережья полуострова Мелвилл лейтенантом британского королевского флота Джемсом Кларком Россом (открывателем Северного и Южного магнитных полюсов Земли) были добыты две чайки. Окраска этих птиц поразила не только Росса, но и всех его спутников. Спина и крылья у птиц были светло-серые, голова и шея – белые с розовым оттенком, а грудь, брюхо и подхвостье ярко-розовыми. Вокруг шеи в виде ожерелья шла узкая бархатисто-черная полоса, клюв был черный, вокруг глаз – красный ободок, а ноги – ярко-красные. Птицы казались отблеском утренней зари. Так был открыт новый вид – розовая чайка…»
– Ну, и к чему ты это прочитал? – осведомилась Марья. – Можно убивать? Так, что ли?
Он задумчиво проговорил:
– Розовую чайку увидеть хочется.
Марья грустно покачала головой.
– Увидеть и убить? Как этот лейтенант британского королевского флота…
Он прохладно, отстраненно посмотрел на жену. Захлопнул книжку и сказал, вынимая папиросы:
– Пойду, поем курятины.
Жена удивилась.
– А я не варила курятину.
– Ну, тогда я просто покурю. С вашего, мадам, позволения. – Он попытался верхнею губой достать до носа; разнервничался.
Деньги в доме начинали сякнуть – те, что он высылал. И Храбореев затосковал. Задумался. Идти «блоку подковывать» – хоть на завод, хоть куда-то еще – не хотелось. Зарплата везде сиротская. А Север избаловал длинным рублем, да и не только рублём, вот ведь язви его…
Север душу отравил – свободой, волей и чем-то еще, что-то конца не разгадано. Храбореев смотрел в небеса – когда выезжал на охоту. Видел стаи перелетных птиц, неутомимо гребущих в сторону Севера. И вспоминался ему разговор с Никанором Фотьяновичем, профессором.
Неужели правда этих вольных птиц из года в год, из века в век гонит на Север какая-то могучая и странная генетическая память – память о прекрасном теплом Севере? А если это правда? Боже мой! Это как же хорошо жилось тогда на Севере – пятнадцать или тридцать тысяч лет до нашей эры? Какое райское житьё должно было там быть, если и теперь еще птичья перелетная душа – да и не только птичья! – помнит о сказочном Севере, грустит о нем, тоскует и постоянно стремится к далекой своей прародине, навсегда затерявшейся в чистых снегах.