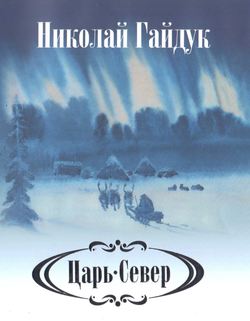Читать книгу Царь-Север - Николай Гайдук - Страница 4
Книга первая
В гостях у Полярной звезды
Оглавление1
Помнится, впервые изучая карту, он поймал себя на мысли, что гигантский полуостров Таймыр похож на крепкий подбородок упрямого и дерзкого человека. Случайно ли? Ведь именно такие упрямые, дерзкие и непокорные русские люди – грудью проломили дорогу сюда. В начале семнадцатого века пришёл народ из Мангазеи. Следом – в восемнадцатом веке – потянулись братья Лаптевы, Челюскин, Прончищев, Минин и многие другие непоседы, в жилах у которых клокотала неуёмная кровь. Что их манило из тепла и уюта? Что влекло? Неужели всё тот же древний голос крови, который заставляет стаи перелетных птиц каждую весну срываться с тёплых берегов и лететь к своей далёкой загадочной прародине, бесследно сгинувшей в полярных льдах? Только была ли она, та прародина, Гиперборея? На этот вопрос он будет пытаться ответить всю жизнь; будет проклинать суровый Север, манящий к себе. Потом – боготворить. Будет постоянно «сидеть на чемоданах», собираясь уезжать. И никуда не уедет. Не сможет. Здесь, на Таймыре, он будет ловить себя на странном ощущении, будто опоили зельем колдовским…
Что это, Север? Что ты делаешь с нами? Скажи, Таймыр, поведай, Страна Семи Трав – как звали тебя раньше. Признайся, какое такое волшебное зелье умеешь ты сварганить на своем колдовском семитравье? Секрета не знает никто, но многие знают: вкусивши северного зелья, ты будешь опять и опять возвращаться в ледяные потаённые края. Будешь искать и находить здесь если не полярную прародину свою Гиперборею, то, по крайней мере, – чистоту, первозданность.
Человек на Севере становится таким, каков он есть – только намного лучше. Север делает нас чище, выше самих себя. Душа здесь крепнет, стряхивая с крыльев пыль житейской суеты, воспаряет в горние пределы, где широко и вольно зацветает вечно молодой морозный воздух, напоминающий весёлые цветущие поляны, полные раскалённых пчёл, слетающих на землю – ах, как сладко жалят, окаянные. «Русь! Ты вся – поцелуй на морозе!» – не случайно сказано поэтом…
С годами он многое поймёт, переоценит – в лучшую сторону. А пока – он только что приземлился на убогой вечной мерзлоте.
2
Друг, обещавший встретить в аэропорту, запропал куда-то. Храбореев походил кругами около «Справочного бюро», где было условлено встретиться. Потоптался в растерянности, поглядывая на большие круглые часы, висящие на стене. Посмотрел на карту Советского Союза, исчерченную красными полосками авиационных маршрутов: Диксон, Хатанга, Воркута, Ямал, Якутск… «Наверное, что-то случилось!» – подумал Антон Северьяныч, поскольку друг был человеком слова.
С телефонами тогда было напряжённо – два или три казённых «двухкопеечных» аппарата висели на стене, которую плечами подпирала толпа народу. Храбореев, дождавшись очереди, позвонил по двум номерам, но бесполезно – никто не ответил.
Настроение стало портиться, точно также, как погода портилась над крышей аэропорта – солнце уходило в тучи. Он постоял на крыльце, похлопал по карманам – спичек нет.
Мимо него прошёл лётчик – это был Мастаков Абросим Алексеевич, с которым Храбореев скоро будет жить по соседству.
– Огоньку не найдётся? – спросил Храбореев.
– Ну, как же, как же, – шутя, ответил лётчик. – На Севере никак нельзя без огоньку!
«Хороший мужик!» – мельком отметил Антон Северьяныч, глядя в спину лётчика; всегда он немного завидовал таким небожителям.
Покурив на каменном крыльце аэропорта, Храбореев ещё немного подождал, высматривая друга. И чем дольше ждал он, тем сильнее мрачнел, всё внимательнее осматриваясь. Он поминутно хмыкал в недоумении, пожимал плечами и плевался – в сторону урны. «Странное местечко, – думал он. – Не сказать, что пустыня, а всё-таки…» Сколько не смотрел он по сторонам, но ничего здесь не видно такого, что могло бы его порадовать. Скорее даже наоборот – многое отпугивало, отталкивало.
Тогда ещё ходили электрички – пятьдесят километров от аэропорта до города. Храбореев сел в обшарпанный вагон и ужаснулся, как только отъехал от аэропорта. Ужаснулся тому, что увидел за окнами – кругом были грустные, почти до горизонта захламлённые пейзажи, какие можно встретить лишь на советском Севере: куски какого-то металла, страшно покорёженного; металлические бочки из-под горюче-смазочных материалов и многое другое – в таком же духе.
Стояла середина августа, и нельзя было не думать о том, что дома под Тулой сейчас солнце вовсю сияет, точно огромный тульский самовар; зелень шумит в лесах и в полях; птахи кругом заливаются. А тут? Чёрт знает что!
Он трясся в электричке, курил возле окошка в грязном тамбуре и тоскливо созерцал «марсианский пейзаж». Камни. Грязь. Туманы. Ветер.
Вдруг порывистый дождь налетел – как будто прутами из проволоки хлобыстал по окнам, трещал по крыше. Потоки воды были настолько плотными – видимость пропала на несколько минут, только одни расплывчатые контуры за окном проплывали. Внезапно начавшийся ливень – так же внезапно закончился. Голубизна – какая-то не очень естественная, словно бы нарисованная свежей акварельной краской – вдруг навалилась со всех сторон. Промокшая, слегка дымящаяся тундра за окнами точно присела – точно голову в плечи втянула, пугливо уступая место голубой громаде небосвода, восторжествовавшего от края и до края горизонта. И вдруг снежинки вихрем закрутились – и настолько это было непривычно, дико, что не сразу поверилось. Скорей всего, что это не снежинки, а пух одуванчиков… И пока он присматривался к этим снежинкам, к этим одуванчикам – всё прошло, всё пролетело. И вот уже солнце опять – как ни в чём не бывало – солнце улыбнулось в облаках и тучах.
Рядом с ним оказался мужик, вышедший покурить.
– Как вы тут живёте, мать-перемать?! – удивлённо спросил Храбореев, глазами показывая за окно.
– А вот так и живем. С матерками в зубах.
Окрестная тундра представляла жалкую, плачевную картину. Год за годом грандиозный металлургический комбинат – советский молох, построенный на костях заключённых, – убивал всё живое кругом; выбросы летели на десятки и на сотни километров. И Храбореев подумал, что длинные рубли на Севере – это короткая жизнь.
И чем дальше он ехал, тем печальнее были картины. И совсем уж поразил его заполярный город, стоящий на вечной мерзлоте, окруженный грудами хлама и мусора, а сверху прикрытый чёрно-синей шляпой дыма, такого вонючего, что без противогаза тут не продохнуть.
«И вот это – наша древняя прародина? – подумал он, озираясь. – Это – мечта?»
Ему в те минуты – чего греха скрывать – очень сильно захотелось, задрав штаны, бежать назад, в аэропорт, и со слезами в голосе закричать в стеклянное дупло, где сидит кассирша: «Мамочка! Роди меня обратно! Дай билет, я в Тулу полечу. Я лучше на заводе буду блоху подковывать, получая гнутую копейку, нежели тут загибаться при хорошей зарплате!» Но характер у Северьяныча был такой, что никогда не позволял отступать от намеченной цели.
3
Хлебосольное застолье было шумное – с хорошим, звонким северным размахом. С гармошкой. За столом восседали друзья и знакомые – на буровых когда-то вместе вкалывали.
– Заяц трепаться не любит! – говорил раскрасневшийся друг. – Если я сказал, что встречу, значит, так оно и будет! Но кто бы мог подумать, что вахтовка сломается в самый неподходящий момент? Мы там, на переезде, заторчали так, что нас электричка чуть не раздавила! Так что извини, братан!
– Да ладно, всё путём…
– Нет! – настаивал подвыпивший друг. – Я вижу по глазам, слышу по голосу! А? Чего тебе тут не понравилось?
– Окрестные пейзажи.
– Не понял. А что именно?
Хмелея, Храбореев настраивался на добродушный лад.
– Да просто я дома очки позабыл…
– Какие очки?
– А ты читал «Волшебник изумрудного города»?
– А-а… Это сказка, что ли? Ну, понятно! – Друзья расхохотались. – Очки тебе выдадут!
– Правда? А где?
– В цеху. Там, где всё на меху. Ты там уже в списках. И очки, и респиратор выдадут, – заговорили наперебой. – И даже премию. Если, конечно, сачковать не будешь.
– Мужики! – Храбореев аж поднялся над столом. – Погоди! Да вы это серьёзно?
– Ну, так ещё бы! – заверил друг. – Заяц трепаться не любит! Давай лучше споём! «Ты уехала в знойные степи, я ушёл на разведку в тайгу… Надо мною лишь солнце полярное светит. Над тобою лишь кедры в снегу!»
– А, по-моему, солнце не полярное, – сказал Храбореев. – Там поётся про это… палящее…
– А у нас – полярное! Давай, маэстро! Дуй!
Руки у «маэстро» были такие огромные – гармошку сгоряча порвёт и не заметит. Крупные пальцы работяги-гармониста – тупые короткие пальцы с чёрно-синими ногтями – с трудом попадали на кнопки.
Хороший вечер был. Душевный.
А на другое утро – была суббота – мужики собрались в тундру. Причём собрались так «сурово» – даже не похмелились, поскольку один был за рулём, а все другие «около руля», так они сказали Северьянычу, немало удививши его этой мужской солидарностью.
Вахтовка – крытая машина, куда легко залезла вся честная компания, – рано утром отвезла их на причал, где уже под парами стоял старый катер, задышливо хрипящий дизельным хайлом. По холодной, извилистой и мелкой реке они ушли куда-то вглубь огненно-охристой тундры. На каменистом пригорке разбили свой табор. Там была и уха, и шашлык, и всё, что только хочешь; ящики с провизией и ящики с патронами – всё было в кучу на берег свалено. «Как бы эти черти не перепились, да потом не перестрелялись!» – промелькнула тревожная мысль у Северьяныча. А потом – в конце разгульного денька – он с удивлением констатировал тот факт, что никогда ещё не встречал подобную компанию. Никто не позволил себе ни лишней рюмки, ни лишнего, пустопорожнего выстрела.
Мужики попались – просто первоклассные.
Через несколько дней они помогли ему без проволочек устроиться на завод. Мало того – он вскоре получил квартиру. Марья, жена, должна была к Новому году приехать. Время ещё было, и Храбореев сделал небольшой ремонт. Долго рыскал по магазинам – искал хорошую сантехнику. Потом – друзья опять же помогли – достал шикарные фотообои. На «материке», заметил он, люди спокойно, даже равнодушно относятся к таким фотообоям, а здесь – иногда зайдёшь с морозу, глянешь – сердце жаром возьмётся. На стенах – иногда во весь размах – синеют реки, озёра; водопады серебром полощутся; зелёные стога стоят в лугах; глухарь самозабвенно токует на кедровой ветке… «Красота! – думал Северьяныч, рассматривая свои фотообои. – На такие картины можно смотреть и смотреть – не надоест. Японцы – это я слышал от знающих людей – японцы могут часами глазеть на свою Фудзияму. А я что – рыжий?..»
Перед кроватью – так, чтобы можно было издалека рассматривать – Северьяныч приклеил картину с какой-то высокой, остроконечной горой, на которую взбиралась крохотная фигурка путника, похожего на муравья.
«Кто это там? – глядя на картину, думал он в тишине полупустой квартиры. – Наверно, это я иду. Ищу Гиперборею!»
К Новому году ремонт был окончен. Храбореев холодильник зарядил продуктами – чтобы честь по чести встретить Марью. Ждал с нетерпением. Только, увы, не дождался. «Север – он везде, брат, Север, даже в Африке», как любил повторять один газовик, оказавшись «под газом».
Новый год Храбореевы встречали порознь. В декабре пуржило много дней без передыху, и Марья – собравшаяся лететь – застряла где-то в Туле «с тульским самоварчиком в обнимку».
– Я же говорит тебе, вылетай заранее! – сердился Храбореев по телефону.
– Ну, кто же знал? – слабо возражала Марья. – Тут у нас тепло…
– У вас тепло, ага! Кто знал? Я знал, а потому и звал заранее!
– Да мне тут надо было кое-какие дела доделать. Ты не сердись. Я скоро…
– Скоро сказка сказывается, – ворчал Храбореев.
Только в первых числах января самолёт поднялся на крыло.
Над Крайним Севером звенела ясная, алмазная погодка. Морозы придавили ртуть в термометрах – до минус пятидесяти пяти. Небеса над тундрой полыхали радужным сиянием, и Марья Храбореева, расплющивая нос, жадно смотрела в иллюминатор. Восторгалась, как девчонка. Но восторженного пылу хватило ненадолго. В аэропорту взяли такси и, когда подъехали поближе к городу, – не только сияние пропало в дыму и в копоти – яркие звезды зажмурились. И посинел мертвецки, почернел огрызок ущербной луны, ещё недавно криворото скалившийся над вершиной Медвежьей горы, горбато взгромоздившейся над городом.
4
Завод находился почти на окраине города. (Раньше он вообще был за городом, но дома со временем подошли к заводу). Когда-то считавшийся «режимным» предприятием, завод был огорожен рядами колючей проволоки, но и потом, когда гриф «режимный» убрали – ряды колючей проволоки никто не отменил. Разве что овчарки перестали тут ходить рядом с ВОХРой – военизированной охраной. А так – всё по-прежнему. Строго. Будто в зоне. И точно так же как в зоне тут порой устраивали шмон – делали обыск. Правда, не всех подряд шмонали, а только по выборке – если твоя рожа не понравилась, ну то бишь, показалась подозрительной.
Первое время этот шмон просто бесил Северьяныча. Ему хотелось развернуться – в ухо треснуть сытому охраннику. И в то же время Храбореев понимал, что этот сытый здесь не причём – работёнка у него такая. Холуйская, надо сказать, работёнка. Зато в тепле.
Поначалу Северьяныч был на заводе токарем, чуть позднее перебрался в цех электролиза меди. Здоровенный, гулкий «аэродром», как прозвал его Северьяныч. Цех был старый, ещё довоенный – первая катодная медь была тут получена в 1934 году; об этом говорила медная табличка, прикрученная на железной балке – перед самым входом. Храбореев не считал себя тупым, но как-то долго не мог освоить это простое дело.
– А что тут происходит? – расспрашивал он своих новых друзей по работе.
– Элементарно, – объясняли ему. – Вот, смотри. Эта хрень называется – медный анод. В медеплавильном цехе делают.
– Ну, это я знаю. А дальше?
– А дальше этот медный анод погружают в ванну с раствором электролиза. Медь осаждается на катоде. А часть примесей переходит в электролит. А селен, теллур, драгоценные и редкие металлы переходит в шлам…
– В шлак?
– Ну, что-то наподобие того.
– А как же это так? Драгоценные и редкие металлы переходят в отбросы?
– О, нет, братишка. Шлам – это не отбросы. Шлам – по крайней мере, здесь – это такая штука, за которую ты можешь срок получить, если вздумаешь вытащить за проходную.
– Ага! – Северьяныч усмехнулся. – Вот с этого и надо начинать ликбез. Сразу становится ясно, какая тут серьёзная работа.
Производство было вредное, зато деньжата платили добрые, а пахать Северьяныч никогда не ленился. Карьера очень скоро у него полезла в гору. Стал электролизником третьего разряда, затем четвертого. Так, смотришь, высоко забрался бы, но вот беда. Чем выше поднимаешься, тем сильнее нужно спину гнуть перед начальством. Подхалимаж – искусство не для многих, для этого нужно родиться с каким-то особым составом крови. Но дело даже не в этом.
Как-то после смены Храбореев зашёл в туалет, расстегнул ширинку и напугался.
– Ни черта себе… – пробормотал, поморщившись. – Моча, блин, с кровью пополам!
Жалобу его услышал человек, стоящий рядом.
– А что ж ты хочешь? ПДК – грёбаные эти предельно допустимые концентраты вредных веществ – завышаются то в пять, то в десять раз. Ты, гляжу, новенький?
– Со старыми заплатками.
Так он познакомился с молодым жизнерадостным плавильщиком, на теле которого за смену в цехе сгорала хлопчатобумажная рубаха. Звали плавильщика Анатолий Силычев, для краткости, – Силыч.
Разговорились в курилке.
– Даром, что ли, наш завод входит в так называемую «группу повышенного риска»? – просвещал Анатолий Силычев. – Я тут журнальчик на днях полистал. Если верить данным ЮНЕСКО, профессиональная смертность среди металлургов и горняков находится едва ли не на первом месте.
– Спасибо, утешил!
– Хлебай на здоровье! Ну, побегу. – Силычев пожал ему руку, будто горячим металлом ожёг.
На завод Храбореев пошёл из-за квартиры – нужно было отрабатывать. Поэтому пахал, скрипя зубами, в которых была зажата «соска» – наконечник противогаза. Работал и попутно присматривал местечко «на свежем воздухе».
– Силыч, ты что-нибудь посоветуешь? – обратился к Анатолию.
– Подумать надо.
Рассудительные глаза плавильщика – стального цвета – искрили звёздочками, как миниатюрные ковши. А на левой щеке металлурга виднелись две темно-малиновых родинки, напоминающие капельки остывшего металла; плавильщик временами шаркал по щеке – привычка такая, – будто смахнуть пытался капельки.
Через какое-то время Анатолий Силычев спросил:
– Ты как насчёт рыбалки? У меня товарищ работает в артели рыбаков. Если хочешь, я поговорю. Но это, скорее всего, только весной.
– Ладно, – согласился Храбореев, – как-нибудь перезимуем, а там – видно будет.
Первая зима на Крайнем Севере далась крайне тяжело.
В конце ноября солнце кануло за горизонтом, выпуская в морозную дымку своего «двойника» – тусклый пустотелый оранжевый шар, долго стоявший в небе над горизонтом. Потом и он пропал, шафрановой пылью рассыпался по перевалам. И в душе у Храбореева тоже «солнце пропало». На материке привыкший подниматься с первым проблеском зари, он каждый день, точно петух, которому пора прокукарекать, смотрел в ту сторону, где должен быть восход – и ничего не видел, кроме темноты, где хрупкой солью мерцали звезды, выедающие глаза. Хандра начинала наваливаться, хандра, особенно сильно гнетущая душу в полярную ночь.
– Синдром полярных сумерек, вот как это называется, – объяснил ему знакомый врач. – Это время особенно тяжко переживается теми, кто недавно переехал сюда с материка. Но даже и те, кто уже адаптировался, и даже эти… аборигены, даже они страдают хандрой, апатией и сонливостью. А виною всему – мелатонин!
Храбореев даже оглянулся.
– А это кто? – спросил он шепотом. – Что за зверь?
– Вещество такое в организме, – стал растолковывать доктор. – Оно отвечает за сон и вырабатывается только ночью. А когда наши дни становятся тёмными – мелатонин вырабатывается даже днём.
– И что же делать? А? – поинтересовался Храбореев. – Башкой об стену биться?
– Не обязательно. – Знакомый доктор улыбнулся. – Нужно кушать солнечные фрукты. Мандарины, апельсины, яблоки. Нужно слушать хорошую музыку. Яркую одежду надо носить. Но самое главное: нужно сделать так, чтобы вокруг вас было много света. Только нужно использовать не жёлтые лампы, а лампы дневного света. Понимаете? Выработка мелатонина будет снижаться, а работоспособность при этом должна увеличиться. Теоретически.
– А практически?
– А практически народ у нас, в основном, применяет только старый дедовский рецепт: водку по-чёрному глушит чёрными полярными ночами.
– Вот с этого и надо было начинать! – Северьяныч расхохотался. – А то – апельсины… манда… мандарины…
Странное времечко было – полярная ночь. На часах, например, двенадцать ноль-ноль, равно полдень, а за окном – как будто ровно полночь. И ничто не помогало Храборееву – ни фрукты, ни яркая одежда, в которую он первое время рядился так, что папуасы позавидуют. Первые дни, когда он сдуру послушал советы врача и стал покупать себе какие-то немыслимо яркие наряды – первые дни жена смотрела на него как на придурка, а потом даже заревновала; может, он влюбился и поэтому…
– Врач сказал? – удивилась Марья Дорофеевна. – Так это что – и мне так нужно вырядиться? Ты будешь – клоун, я – клоуниха. Или клоунесса?
– Клуня, так будет правильно, – сказал он, уходя из дому.
Бродя по тёмным улицам, просвистанным метелью, Храбореев боролся с желанием завернуть в какую-нибудь забегаловку и там – в один присест – утопить хандру в бутылке водки.
Изредка заходил он в гости к Анатолию Силычеву.
Круглощёкий, жизнерадостный плавильщик сверкал сталистыми глазами – искры чуть не сыпались.
– Хандра? Что за тетка? Не знаю такой. Ты, главное дело, побольше в ковшик наливай, почаще в плавильную печь загружай, и всё будет в порядке. Хай-ай-ай… – Расхохотавшись, Силыч показал на поллитровку. Жёсткой ладонью шаркнул по щетинистой щеке с «железными» каплями родинок.
– Да я уже думал об этом, – признался Северьяныч.
– И что? Сомневаешься? Зря. Это средство проверено.
Храбореев попробовал «народное» средство борьбы с хандрой. И неожиданно загудел – сорвался, как в пропасть, в продолжительный запой, чего с ним ещё никогда не случалось. И после этого он в полной мере осознал, что такое – настоящая хандра. Тело разбито, душа растоптана. Хоть башкой об стену бейся, хоть вены режь. «Всё! – зарекся он. – Завязано! Морским узлом!»
На заводе Северьяныч сварил гантели, штангу. Лыжи купил, ботинки. И стал завсегдатаем на спортивной базе, находящейся за городом. В субботу и в воскресенье приедет на базу, прострочит кружок-другой – километров десять-пятнадцать намотает «на спидометр», повеселеет, взопреет и раскраснеется как синьор-помидор. И напрочь забывает про эту, как её звать-величать? Хандра, или кто там покоя душе не давал?
И всё равно этот замкнутый круг – дом, завод, и снова дом, завод – выматывал заунывным однообразием. Приходилось жить, скрипя зубами. Каждый день давался на преодолении, на характере.
Здоровый образ жизни подтолкнул в библиотеку. Северьяныч и раньше любил читать, но тут… Запойный всё-таки характер был у него. Читал – запоем. За уши, бывало, не оторвешь от книжки. На смену порою чуть не опаздывал. За зиму перелопатил львиную долю русской классики. «Буржуев» тоже много одолел. Среди книжных полок – часами ходил, листал, выбирал, даже выписывал что-то. На глаза попалась новая книга профессора Усольцева – дяди Никанора. На картинке было изображено родовое древо, растущее из далёкого прошлого. И оказалось: предки Храбореева принимали участие в первых ледовых походах на Север. «Вот тебе и генетическая память! – удивился он. – Душа моя, как птица, неспроста сюда летит».
Книги Храбореев домой таскал – пудами. Читал о тайнах Севера, о древней цивилизации, именуемой Гипербореей. О том, что прародина всего человечества может быть именно здесь – на полярных широтах. У него захватывало дух. «Как много прекрасного и любопытного рядом, – думал Северьяныч. – А мужики уткнулись в водку, точно свиньи в корыто, эх, люди, люди, жалко вас».
О прочитанном хотелось поговорить, и Храбореев «наседал» на жену. И у них возникла странная проблема, будто кочка на ровном месте. Разговор не клеился с женою. Марья Дорофеевна, преподававшая в начальных классах, и сама словно осталась там же – на уровне третьего класса.
5
Школа выматывает учителей – как шахта, может быть, шахтера не выматывает. Марья Дорофеевна говорила мужу: «Это только кажется, что языком легко работать в школе, тетрадки чиркать красными чернилами. А на самом деле, если труд учителя и труд шахтера положить на разные чаши весов – ещё неизвестно, какая из них перетянет».
Домой жена приходила усталая.
И тогда пришла – ничуть не веселее. Плиту включила, мужа окликнула:
– Антон! Ты ужинал?
– Уже поел! – Откликнувшись из дальней комнаты, Северьяныч через пару минут заглянул на кухне. – Что у тебя? Какие-то проблемы?
Она удивилась.
– Откуда ты узнал?
– По голосу. Ну, что там? Давай, выкладывай.
Марья Дорофеевна вздохнула, раскрывая сумку. Показала школьную тетрадь.
– Видишь, каким художеством занимаются мои ученики?
– А что там?
– Свастика.
– Ну? – спокойно сказал муж. – И чего ты глаза округлила?
– Как это – «чего»? День Победы на носу, а тут… фашистские штучки! Неужели не понятно? – Марья Дорофеевна разволновалась. Обхватив себя за плечи, засновала – то в коридор, то в зал, то опять на кухню.
– Присядь! – попросил он. – Послушай. Только очень внимательно…
Остановившись, жена посмотрела с недоумением. Как-то необычно он заговорил, официально. Это задело её за живое.
– Может, я поем сначала? – спросила с легким вызовом.
– Пожалуйста. – Он говорил спокойно, твердо. – Я подожду.
– Хорошо, потом поем. – Выключив плиту, она уселась напротив мужа. – Слушаю.
Северьяныч взял папироску, но не закурил – жена не любила. Помолчав, потыкал папироской в сторону раскрытой ученической тетради.
– Когда я работал на Кольском, я побывал в таких укромных уголках и повстречался с такими интересными людьми… – Муж покрутил головой. – А потом я и сам кое-что прочитал… И у меня глаза открылись на эту свастику… Никакая она не фашистская.
– А чья же?
– Наша. Свастика – в представлениях древних народов – символ полярного солнца и Севера вообще.
Жена чуть со стула не хряпнулась – сидела на краешке.
– Вот как?! Ничего себе…
Он взял тетрадку и пощёлкал ореховым ногтем.
– Свастика эта – один из древнейших символов северного орнамента, который олицетворяет кажущееся вращение звёзд в зените полярного неба. У саамов, например, свастика жива и сегодня. А у других – отбили охоту рисовать, вышивать и выпиливать из дерева такие вот свастики…
– У кого – у других? Кто отбил? – хлопала глазами Марья Дорофеевна, слегка обескураженная.
Забывшись, он закурил. Жадно подёргал раза три-четыре и выкинул окурок в форточку. И снова заговорил официальным, казённым голосом, который всё больше нервировал.
– Германский фашизм, как вы знаете, Марья Моревна, присвоил себе эту общемировую символику – свастику. Поэтому она попала под запрет… – Муж потыкал пальцем, показывая куда-то за окно. – Я встречал стариков, которые мне рассказывали страшные истории! Во время Великой Отечественной войны русская одежда со свастиковым узором старательно изымалась…
Жена, похоже, не очень верила.
– Кто же это старался?
– Товарищи из НКВД.
– Ого! Даже так?
– А ты думала? Дело было серьёзно поставлено. На Север были брошены специальные отряды. Ходили, шарились по русским селам и деревням, силком снимали с баб и с девок юбки со свастиками, передники, рубахи и всякие понёвы. Снимали и жгли!.. А кое-где попутно – сверх плана, так сказать! – тащили девок и баб на сеновал… И сурово наказывали! Как пособников мирового фашизма!.. – Он разволновался; верхнею губой попытался дотянуться до носа. – Ты можешь спросить, почему лопари сегодня спокойно рисуют свастику? Так это очень просто объясняется. До лопарей – до саамов – НКВД не успело добраться. Война закончилась. Вот так-то! Фашизм, как известно, всего лишь четверть века продержался на земле. А свастика эта – тысячелетний символ. А мы? Мы всё перевернули – с ног на голову.
Храбореев положил перед нею тетрадку со свастикой и осторожно закрыл.
Марья Дорофеевна оглушенно молчала. У неё гудело в голове. У неё ум за разум заходил. Она просто отказывалась верить. И в то же время она прекрасно понимала: «Северьяныч не врёт. Какой резон ему? Не врёт, но, может быть… Чего-нибудь напутал? Он же там, на вышках да на газопроводе газовал с газовиками, сам рассказывал…»
– Не веришь? – спросил он, угадывая настроение жены. – Книжку могу принести. И не одну.
– Принеси. Мне будет интересно.
– Договорились.
Только читать Марье Дорофеевне некогда было. Много школьной суеты, обязательной писанины, а также и необязательной, но желательной общественной нагрузки. И потому остались непрочитанными «Русские лопари», изданные Н. Н. Харузиным в 1890 году, труды А. Б. Кутафина «Материальная культура русской Мещёры», и ещё кое-какие любопытные книги, раздвигавшие горизонты общепринятых понятий и взглядов на жизнь вообще и на жизнь Русского Севера в частности.
6
Душа его искала собеседника. И однажды он познакомился с полярным летчиком, с которым случайно встретился в аэропорту, когда только-только прилетел на Север.
Абросим Алексеевич Мастаков был соседом. Человек серьёзный, занятой, он время от времени приглашал к себе Антона Северьяныча, который никогда не приходил с пустыми руками, постоянно приносил гостинцы: то жирную нельму, то банку рыбьей печени – максы, то что-нибудь ещё. (Храбореев на выходные в тундру убегал – душу отводил рыбалкой и охотой).
У летчика было два сына.
Влюбленными и грустными глазами Храбореев целовал детей, охотно возился с ними, становясь хоть «лошадью», хоть «танком». Из дорогого металла на заводе Северьяныч смастерил сказочную птицу-бурю с железным клювом, с медными когтями. Размахивая руками, он показывал ребятишкам, как птица-буря поднимает ветер… А когда он уходил домой, на душе было так грустно и так светло, точно там лежала огромная алмазная слеза. Лежала и подрагивала. И он боялся обронить слезу – возвращался медленно, задумчиво.
В субботу как-то он засиделся у Мастакова.
Марья Дорофеевна, встретив мужа, взялась «пилить»:
– Ну, как не стыдно? У них двое детей, а ты сидишь там, бу-бу-бу… Аж тут за стенкой слышно!
Он сердито засопел:
– Это не я «бу-бу-бу». Это лётчик.
– Да хотя бы и лётчик. Ты-то совесть имей!
Храбореев желчно ухмыльнулся:
– Баба у меня – Брюзжит Бордо. Морда бордовая, ходит, брюзжит.
– Очень остроумно.
– Ну, а что ты взялась совестить? Что уж я такого-то бессовестного сделал?
– Но у них же дети маленькие…
– А у нас большие! – Он чуть не взорвался. – Что ты заладила: дети, дети…
– Молчу. Иди, ложись.
– Я сам как-нибудь разберусь, ложиться мне или стоять.
– О, Господи! Какие мы грозные!
– Помолчи! – посоветовал он, опуская лобастую голову.
– Ты чего это? Как бычок.
– А ты чего? Как телочка… – Он хотел сказать «не стельная». Но промолчал, только зубами скрипнул. В последнее время он озлобился. Даже сам себя побаивался: как бы ненароком бабу не ударить… Иногда вспоминалась ему Люба с Валдая. И думал он, что надо бы ему найти ту Любушку. (Валдайский колокольчик он бережно хранил).
Марья Дорофеевна, исподволь наблюдая за ним, ощущала раскалённую пьяную злобу. И однажды спросила, глядя прямо в глаза:
– Может, ты нашёл себе кого?
Душа у него содрогнулась. Папироска выпала из пальцев.
– Кого? – пробормотал, наклоняясь. – Что ты буровишь?
Жена помолчала. Спросила печально:
– Может, нам развестись?
Он долго смотрел на неё.
– Мать, ты совсем… охудела?
Вздохнув, она молча погладила седые вихры на висках Северьяныча.
К этому вопросу никогда уже не возвращались.
7
Мастаков зимою один остался – так получилось; жена с детишками уехали на материк «погреться». И лётчик пригласил к себе соседа «на чаёк». Бутылка была действительно чайного цвета – то ли коньяк, то ли чача, подкрашенная кофейными зёрнами.
– Я вообще-то не пью, – сообщил Северьяныч. – Разве что губы помочить. За компанию.
«Помочили губы». Разговорились.
В глазах у лётчика синело небо, и Храбореев стал откровенно рассказывать о том, что всегда он завидовал лётчикам – ещё когда служил в десанте. Считал их небожителями, счастливчиками, ходившими по небесам – среди звёзд, облаков и сияний.
– Небожители? – Мастаков, слегка польщённый, улыбнулся. – Ну, это перебор. Лётчики – те же люди. С грехами. Недостатками. Мы, например, сильно верим в приметы.
– Да? – удивился Храбореев. – Это в какие же?
– Всякие. – Абросим Алексеевич показал ему на фотографии в рамке под стеклом. – Видишь, какой тут иконостас? Друзья, товарищи, учителя-командиры. И при всём при этом – ни одной моей фотографии перед полётом. А почему? Такая примета. Нельзя фотографироваться перед полётом. Теперь вот даже похвастаться нечем. Или вот тебе ещё одна примета: уходя на полёты, нельзя отдавать кому-либо ключи от квартиры. У меня в этой связи получился даже анекдот. Чуть в милицию не загремел.
– Это как же?
– Просто. Взял ключи с собой в полёт и потерял. Вывалились где-то в кабине. Через два дня нашли… Но это же – через два дня. А поначалу я пришёл к своей двери. Хвать-похвать, а двери нечем открывать. Рассердился на себя и на приметы эти… И начал дверь высаживать плечом… А соседи-то… Ха-ха… Они меня тогда ещё не знали… Короче, минут через пять подскочила милиция и берут меня под белы рученьки… Ха-ха… А ты говоришь, небожители…
Хорошо было в доме у лётчика. Тёпло, уютно, чистенько. Пурга протяжно, тонко завывала за окнами, но завывание это не пугало, а как раз наоборот – прибавляло радости. Торопиться никуда не надо: у Мастакова два дня свободных и Северьянычу только через сутки на смену.
– Слушай, Алексеич, – как-то тихо, вкрадчиво заговорил Храбореев, – а помнишь, ты ребятишкам своим что-то рассказывал про какого-то Царя-Севера? Там, за облаками будто бы… Это что за история?
Лётчик даже не сразу припомнил.
– А-а! – Он отмахнулся. – Ну, это так, забава для детишек. На сон грядущий, так сказать.
– Расскажи, Алексеич! Будь другом!
– Зачем тебе?
– Да я начало-то услышал, а потом ты с пацанами в спаленку ушёл… Мне просто интересно… – Храборееву не хотелось говорить про сына, погибшего на Колдовском, про медвежонка по имени Северок.
Они в тот вечер долго сидели. Абросим Алексеевич согрелся «чайком», раздухарился и охотно стал повествовать о своей работе. О том, что в последнее время летает над Северным Ледовитым океаном – в район Канады, где находились секретные ледовые базы для советских подводных лодок.
– Это был ночной полёт, гроза шарахнула! – вспоминал раскрасневшийся летчик. – Индикатор горизонта поломался. Так, во всяком случае, мне показалось. И ещё две стрелки обесточились. Поломка была – ерунда, потом-то я узнал. А в тот момент меня всего жаром окатило. Как в русской бане. Запаниковал. Отклонился от курса – пропал со всех радаров ПВО Советского Союза. И ушёл – черт знает, куда! Сам до сих пор не могу разобраться, куда занесло. Помню, летел сквозь непогоду – сквозь грозу. И вдруг – впереди по курсу – замаячила шаровая молния. Я лечу со скоростью 520 километров в час, и она – примерно так же. Представляешь? Кошмар. Летит, летит и светится – перед фюзеляжем. Вроде как дорогу мне показывает. Я смотрю на приборы – мне нужно вправо рулить. А шаровая молния влево заворачивает. И только я хотел пошевелить штурвал, машину вправо завалить… Смотрю, а с правой стороны вершина горы промелькнула. То есть, я бы врезался в ту гору! Если бы не молния, ведущая меня «по коридору». И тогда я доверился ей, той шаровой подруге… И вдруг она в кабину залетела. Светлый шарик такой. Небольшой. Не больше апельсина. Смотрю: шарик меняет окраску. То зелёным цветом заиграет, то голубым, то оранжевым. А потом он прокатился по моей груди. Жарко стало. На мгновенье, помню, жарко. И – всё. Я вырубился. И приборы в самолете вырубились. Сколько времени я провёл без сознания? Бог его знает. Открываю глаза. Ничего не пойму. Где я? Что это? Самолет мой стоит на ровной широкой площадке. Кругом горят и переливаются разноцветные всполохи. Те самые всполохи, которые мы наблюдаем с Земли. Только там, где я был, всполохи висели на каких-то… Ну, вроде как на бельевых верёвках. Вроде как сушились. Представляешь? Всполохи те как будто смастерили только что – соткали на станках. Я потом уже, когда ходил, знакомился, увидел огромное белое полотно – кусок домотканой метели. Серьёзно тебе говорю. Длинный такой кусок, шершавый. Мнется в руках, но почему-то не тает. Волшебный. Материю ту прошивают морозными иглами, затем посыпают цветочной пыльцой – то есть красят… Да! Представляешь? Там у них – целая фабрика по производству северных сияний. Но всё это я увидел после… А сначала, когда только прочухался, гляжу – Дворец-Леденец сияет на возвышении. Я подошёл. От него – точно от айсберга – холодом тянет издалека. Только холод необычный. Мятный холодок такой. Леденцовый. Ну, я немного потоптался на пороге, как бедный родственник. Покашлял для приличия. Вошёл. Страшновато, но всё же иду по льду. Иду и удивляюсь – не скользко. Рукой потрогал – лёд кругом. И не холодно. Захожу в просторный зал. Вижу трон. И сидит на троне седобородый Царь-Север. Рядом – Царица-Северица. Или как там её звать? Не знаю, не помню. А около них крутится, играет мальчик. Вроде как – царевич. А неподалеку – ручной медведь. Точнее – медвежонок. Забавный такой. Одно ухо как будто надорвано – белым лопухом болтается…
Храбореев побледнел.
– Вот ведь как! – пробормотал он и невольно припечатал кулаком по столу. Бутылка с недопитым «чаем» зашевелилась, зазвенели стаканы, готовые пуститься в пляс.
– Ты чего озверел? – в недоумении спросил Мастаков.
– Извини. – Северьяныч взял папиросы и отвернулся к тёмному окну, за которым бесилась пурга. – Что дальше-то?
Летчик помолчал, глядя на сутулую спину соседа.
– А дальше… – Он вздохнул, сбитый с тихого и плавного течения. – Дальше седобородый Царь-Север спрашивает у меня. Что, мол, заблудился, добрый молодец? Я говорю, не мудрено в такую-то погодку. Меня уж там, наверное, похоронили… Царь-Север улыбается: не беспокойся, мол, тебя похоронят не скоро и не здесь. Мне интересно стало. «А где же?» Он помолчал и говорит: «На берегу Чёрного моря. В солнечной Анапе». Так прямо и сказал. Ага. Потом поправил корону золотую на голове и слегка пристукнул длинным золоченым жезлом, из-под которого вылетела ледяная звезда. Не простая звезда – путеводная. А потом и говорит мальчонке своему, царевичу, иди, мол, проводи человека.
Царевич в руки взял тот путеводный огонь, переливающийся цветами радуги. Подошёл ко мне и улыбнулся. Ей-богу, никогда я не видел на Земле ни одной такой улыбки – чистой, можно сказать, святой.
И вот мы с ним пошли. Сделали десять, а может, пятнадцать шагов. И я обомлел. Смотрю – уже стоим у горизонта. Нет, это был не горизонт – край света, край земли, возле которого и находился Дворец-Леденец. Я когда глянул вниз – ох, мать моя! вот это да! Там, внизу, мерцали мириады звёзд, рассыпанные во Вселенной. Только я не узнавал те звезды. Рисунки созвездий были совсем другие, не такие, какие мы привыкли видеть с Земли. «Так что же это? Где я?» – спрашиваю. А мальчик-царёк отвечает: «На Полярной звезде».
Потом он проводил меня до самолета и передал ледяную путеводную звезду. «Когда взлетите – выпустите, она вам укажет дорогу на Землю». Помню, царёк ещё какие-то инструкции давал. Но у меня уже работали моторы, я плохо слышал. Ну, взлетел. Смотрю и слушаю: полёт нормальный…И приземлился нормально… У всех у наших мужиков на аэродроме – вот такие вот глаза. По чайнику. Все думали, разбился я. Гроза-то была не шуточная.
Мастаков закурил.
Северьянович тоже.
– Ну? – поторопил. – Что дальше?
– А что? – Лётчик пожал плечами. – Тут бы можно было бы поставить точку. Но это не всё. Снежана, супружница, вечером дома вещи мои стала разбирать и обнаружила какой-то изумительный лоскут, светящийся впотьмах.
– Что это, Абросим? – спрашивает.
Я возьми да брякни:
– Северное сияние!
Она улыбается. Не верит, конечно.
– Нет, ну серьёзно…
«Да уж куда серьезней! – сам себе думаю. – Рассказать ей правду? Скажет – рехнулся. Да и в самом деле, кто поверит в эту историю?»
– Я за границей был, – говорю. – В Канаде. Вот и привез подарок…
В общем-то, я не соврал. Я и в самом деле побывал за границей Земли. В каком-то другом измерении. Это я теперь прекрасно понимаю. А тогда… Ну, короче, Снежанка моя повертела диковинный лоскут полярного сияния и говорит:
– Вот буржуи проклятые! Как научились делать, просто загляденье!
Тут я не вытерпел и отвечаю:
– О, это ещё что! Вот видела бы ты… Кха-кха… – И тут я спохватился и рукой махнул. – Потом, говорю, как-нибудь расскажу. А сейчас пойду, залезу в душ – и спать. Устал.
Снежанка мне:
– Ложись, конечно. Отдыхай.
А ночью тот сказочный лоскут пропал из дома. Бездарно так пропал. Я до сих пор жалею. Что случилось? Это я после уже догадался. Форточка была открыта – я спать люблю с открытой форточкой. А волшебный тот лоскут был такой лёгкий – отзывался на любое дуновение ветерка. Вот он и улетел в раскрытую фрамугу – туда, где полыхало вдалеке за городом морозное полярное сияние…
Такая вот, соседушка, история. Хочешь, верь, хочешь, нет. Я ведь и совру – не дорого возьму.
* * *
История эта несказанно взволновала Храбореева. Глубоко задумавшись, он молча накатил себе полный стакан, проглотил и даже на закуску не посмотрел.
«Вот это он не пьёт! – изумился лётчик. – Видно, сказкой этой зацепил я какую-то больную струнку в душе соседа. Снежанка что-то говорила… На материке у них беда стряслась. Мальчишка, вроде, погиб…»
– Значит, Царёк, говоришь? Северок? – уточнил Храбореев, напряжённо глядя куда-то мимо летчика. – Белый медвежонок, говоришь? С левым надорванным ухом? А темной подпалины не было сзади?
– Не знаю, – уже как-то очень серьезно сказал Мастаков. – Я не видел.
– Так, может, была? Он же к тебе задом не поворачивался?
– Нет. Медвежонок культурный попался. – Лётчик хотел улыбнуться, но улыбка получилась помятая. Мастаков заметил, как сильно сосед переменился в лице. Болезненно как-то переменился.
– А какие глаза у Царька-Северка? Не запомнил? А ну, посмотри на меня… Не такие глаза?
Летчику стало неуютно. Он передёрнул плечами.
– Похоже… – прошептал он. – Да, наверно, такие, как у тебя…
Храбореев скорчил странную гримасу: верхней губой попытался до носа дотянуться. Помолчал, глядя в пол.
– А дорого это? – неожиданно спросил, глазами показав на потолок. – Если – туда и обратно? Много надо бензину? Или это… вы же на керосине летаете?
Мастаков нахмурился. Бровь почесал.
– Я не понял… Куда? – пробормотал он. – Куда ты собрался лететь?
– Здравствуйте, я ваша тётя! – Храбореев развёл руками – они слегка подрагивали. – Мы о чём весь вечер говорим?
До Мастакова стало доходить. Он даже моментально протрезвел. Лупоглазо посмотрел на чудака-соседа. Хмыкнул. По кухне потоптался. Криво улыбаясь, сказал по-свойски:
– Ну, ты что, сосед? Ей-богу… Да я же всё наврал! Неужели не ясно?
Храбореев посмотрел на него – как на врага.
– Как это – наврал?
– Ну, сочинил. Кха-кха… Как Антуан де Сент-Экзюпери. Только хуже.
Разволновавшийся Храбореев какое-то время буравил глазами несчастного «Экзюпери».
– Сочинил? Тогда откуда же ты знаешь про оторванное левое ухо у медвежонка?
– Да не было! – Мастаков швырнул окурок на пол и затоптал. – Не было никакого оторванного уха. Ты что, в самом деле? Это я для ребятишек своих сочинил… Да, была гроза. И шаровая молния была. Летела передо мной по курсу. А остальное…
Храбореев долго молчал. Лицо было скорбным. Усталым.
– Я понимаю, некогда тебе… – Он глубоко вздохнул. – Но ты же где-то там недалеко мотаешься. Над океаном… Свернули бы чуток, слетали. Мне бы хоть одним глазком взглянуть…
«Господи! – Лётчик похолодел. – Да он что? Совсем уже…»
Обескуражено качая головой, Мастаков поднял растоптанный окурок и от растерянности заново чуть не прикурил. Спохватился и выбросил в форточку – в морду рычащей пурги. Взял бутылку – вылил в раковину остатки «чая». Со стола прибрал – всё до последней крошки. Постоял возле окна, заложивши руки за спину, всем своим видом давая понять, что ему охота побыть одному. Но Храбореев не уходил. Летчик покосился на него и неожиданно хохотнул.
– А что? Может, и правда попробовать? Главное, с начальством договориться. И керосину побольше…
Пурга за окном утихала. Проступали контуры созвездий.
Северьяныч посмотрел на небо и сказал – всё с тем же скорбным и усталым выражением лица:
– Надо попробовать. Дорогу ты знаешь, и тебя там знают как облупленного. – Он пальцем показал на небо, мерцающее в раскрытой форточке. – Да и я там буду, между прочим, далеко не чужим человеком. У меня ведь родная кровинка живёт на Полярной звезде!
Зрачки у Мастакова заметно расширились. Он хотел что-то сказать, но понял, что теперь ему лучше благоразумно помалкивать и ничему не удивляться. «Я и так тут слишком много наболтал! – покаянно подумал лётчик. – Да кто же знал?..»
Через несколько минут, проводив соседа, он обалдело уставился на живописное чистое небо, разгоревшееся над городом и тундрой – из окна далеко было видно.
Абросим Алексеевич не знал, что подумать про чудака-соседа. Не глупый как будто мужик, а такую околесицу понёс, не дай бог…
8
В библиотеке Антон Северьяныч раздобыл звёздный атлас и после работы по ночам подолгу просиживал над страницами, посвящёнными Полярной звезде. Он уже знал наизусть, что эта Полярная звезда – Альфа Малой Медведицы, а также Киносура – звезда второй величины в созвездии Малой Медведицы, расположенная вблизи Северного полюса мира. Он знал, что это – сверхгигант спектрального класса. Он знал, что надо будет пролететь от Земли до этой Звезды всего лишь каких-нибудь 323 световых года. И это его радовало хотя бы потому, что раньше – ещё совсем недавно – расстояние от Земли до Полярной звезды составляло 434 световых года. Значит, ошибались учёные мужи? Так, может быть, они снова ошибаются? Может, лететь туда – гораздо ближе? А как узнать? Да просто. Надо взять и попробовать. Не жалеть керосин.
Отстранённо и нежно улыбаясь чему-то, Храбореев курил на кухне и сосредоточенно делал на бумаге какие-то пометки, чертежи, расчёты.
– Ты что там всё чертишь? – зевая, иногда интересовалась жена, заглядывая на кухню. – Или тебя перевели в конструкторское бюро?
Он помалкивал, как заговорщик, только ещё нежнее и шире улыбался. Но однажды в полночь он проговорился, присев на край постели:
– Я думаю, что мы с ним скоро встретимся!
– С кем? – сонливо спросила Марья. – Ты про кого?
– Про Царька-Северка…
– А кто это?
Антон Северьяныч разволновался. Опять ушёл на кухню, закурил. Звёздный атлас в потёмках погладил, мечтательно глядя за окно и вздыхая. И при этом глаза у него золотились какими-то сумасбродными звёздами.