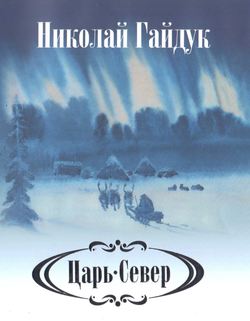Читать книгу Царь-Север - Николай Гайдук - Страница 7
Книга первая
Путешествие к сердцу
Оглавление1
И наконец-то он вступил в Союз художников в Ленинграде, получил мастерскую. Были выставки, хорошие заказы. Тиморей вздохнул свободно. Перестал малевать «натюрморды» – пресловутые портреты передовиков социалистического соревнования. Много времени посвящал работе над «Красной книгой». Запланировал командировки – едва ли не по всему Советскому Союзу.
В середине августа 1991 года он путешествовал по горам Памира. Наслаждался. Помнится, так неохота было спускаться с небес на землю. Вечером стоял на «крыше мира», с грустью солнце провожал. Душа как будто чуяла: это не прощание с горами – прощание с вершинами эпохи.
А потом началась камарилья!
Свобода, хлынувшая на Россию, напоминала свободу ветра и весёлую пьяную волю штормящего житейского моря. Паруса трещали, ломались мачты. Корабли, сбитые с курса, садились на мель, разбивались о камни. Старых маяков, советских, не осталось, а новые светили скверно: то электричества не было, то ещё какой-нибудь холеры.
У Тиморея Дорогина голова пошла кругом от житейского шторма. Он с трудом воспринимал происходящее. Привычные, стандартные понятия и представления в одночасье рухнули. Краски на палитре жизни так вдохновенно перемешались, словно за работу взялся сумасшедший гений. Чёрное – стало белым. Белое – чёрным. Бездарность и пошлость – внезапно оказались в первых рядах. Всё искусство в России вдруг стало в «постельных» тонах. Что за бред? Без поллитры не понять такой палитры. И он сорвался. Упал на дно ужасного запоя. Один. Зимой. Что было, господи, и вспоминать не хочется…
Спасло только то, что веревка оказалась гнилая. Петля оборвалась. Когда прочухался, пришёл в сознание – светило утреннее солнце. Райские птички пиликали, а над головой архангелы летали в лазоревом небе; потолок в мастерской был расписан. Облака сияли позолотой. Он лежал, блаженно улыбался, не узнавая своей мастерской – после шока. Закрыв глаза, руки скрестил на груди и заслушался. Божественная музыка звучала – мелодия Вивальди. Играл магнитофон, который он включил, когда в петлю полез; умирать, так с музыкой.
Мелодия закончилась, и несчастный Тиморей «вернулся» на грешную землю. Ржавая вода из крана капала. На столе мерцала недопитая бутылка. Руки и ноги дрожали от нервного перенапряжения. Пришлось идти на четвереньках. Зацепился подбородком за край стола. Поднялся. На столе – среди «художественного беспорядка» – хрустальная рюмка. Большая, декоративная. Тиморей налил в неё – хотел опохмелиться.
И вдруг увидел мальчика. Махонький, словно игрушечный мальчик в рюмке стоял – по пояс в водке. Малюсенький, лобастый. Личико – мудрое не по годам. В белой рубахе. Ручонки раскинул крестом, пальчики сделал перстом…
– Папка! Не пей!
Он вздрогнул.
– А кто ты?
– Сын твой.
– Врешь. Нет сына у меня!
– Есть.
– Что-то я не припомню греха за собой. Ты откуда?
– Из будущего.
– Шутишь, милый? Выйди. Ты же промок. Простудишься. Это последняя рюмка.
– Папка! Не пей!
– А ну-ка! Прочь с дороги!
Художник руку протянул. И тут его пронзило резкой болью. Рука заболела в плечевом суставе, занемела.
Тиморей зажмурился. Сел на табуретку, заляпанную засохшей краской. Подождал, когда в плече пройдёт. Встал, покружился по мастерской. Покосился на рюмку. Наваждение пропало, а вместе с ним пропало почему-то жгучее желание опохмелиться.
Церковь стояла неподалеку. Тиморей услышал колокольный перезвон и перешел через дорогу. В церкви, не зная, куда приткнуться, он бесцельно походил, походил и остановился возле иконы «Неупиваемая чаша». (Он даже названия тогда ещё не знал). Мальчик, знакомый малый в белой рубахе – руки крестом, а пальчики перстом – стоял по пояс в рюмке и умоляюще смотрел на Тиморея.
Художник опустился на колени перед «Неупиваемой чашей». Утреннее солнце полосой лежало на полу, ещё влажноватом после уборки. Узкий луч, удлиняясь, подползал к нему – живое лучистое золото коснулось коленей, груди. Нежно согревая, солнечный свет заполнил душу, сердце отогрел. Губы задрожали, и Тиморей заплакал, ладонями прижимая солнышко к груди.
Дома – в течение нескольких дней – художник на трезвую голову обдумывал своё житьё-бытьё. Что делать? Как на хлеб зарабатывать? И так и эдак примерялся к новой жизни, но ничего толкового не мог измыслить.
Затрещал телефон.
– Старик! Здорово!
– Кто это?
– Не узнаешь? Богатый буду. Это Лёня… Леон Простакутов. Дело есть. Нужно портрет написать. Натюрморду, как ты говоришь. Только быстро. Сможешь? Ты свободен? Как птица в полете? Прекрасно. Встречаемся через сорок минут у памятника Петру Первому. Если, конечно, его не украли ещё. Сегодня цветные металлы в цене… Ха-ха-ха…
2
Журналист Леон Простакутов жил в Москве, порою появлялся в Ленинграде. Давно, ещё во времена Советского Союза, журналист подошёл к Тиморею на выставке: понравились работы. Простакутов даже «забойную» заметку нацарапал в газете. Встречались они эпизодически, а потом – после развала Союза – вообще несколько лет не виделись.
Леон забурел, располнел, и что-то у него с глазами сделалось. Как будто их заморозили. Такие глаза бывают у манекена – смотришь, и неприятно делается: ни света, ни привета не находишь.
– Операция была, не совсем удачная, – объяснил Простакутов, подслеповато помаргивая. – Я вижу теперь хорошо только деньги. И в основном в американских долларах! – Леон расхохотался.
Весёлый он был человек. Предприимчивый. В советское время он делал «деньги из воздуха» – писал разгромные статьи об экологии, о чистом воздухе, необходимом… как воздух. Солидные были статьи, капитальные. Его даже побаивались: он мог с дерьмом смешать любого нерадивого директора завода или фабрики. Но теперь с журналистикой было покончено – неприбыльное дело. Простакутов занимался каким-то бизнесом. Золотые перстни блестели на руках. Зуб золотой горел, когда он ухмылялся. Чёрные кудряшки поседели и наполовину скатились с головы. Обнажился крупный, отполированный череп. И в черепе том – костяном котелке – варились гениальные идеи.
Леон показал фотографию какого-то военного. (Полковник Ходидуб). Попросил сделать портрет. С фотографии всегда делать сложнее, чем с натуры; Леон хорошо заплатил, и они разбежались посреди Петербурга – бизнесмен торопился.
Позднее, примерно через полгода, Простакутов снова позвонил и снова попросил намалевать какого-то хмыря из серии «их разыскивает милиция». Дела у Простакутова двигались, похоже, в гору. Он ещё сильнее забурел, закабанел.
– Старик! – рассказывал Леон. – Знаешь, зачем я тогда приезжал? Нужно было договориться с вашими властями насчёт покупки одной старой железной крыши…
– А зачем тебе старая крыша?
– Ты не дослушал, старик. Собрался купить я старую железную крышу, сорванную с дома, находившегося неподалеку от Монетного двора.
– Ну? И на фига она тебе?
Леон загадочно улыбался.
– Старичок, ты не услышал главного. Крыша находилась неподалеку от Монетного двора. – Простакутов закурил дорогую сигару. – Не усёк? И власти ваши, олухи царя небесного, тоже ни чёрта не просекли. Они когда услышали, сколько денег им предлагают за покупку старой крыши, подумали, наверно, что у меня у самого с «крышей» не в порядке.
– Я тоже так сейчас подумал, – сконфузился Тиморей.
Потирая шаловливые ручонки, предприниматель продолжал.
– Расплавил я ту железную крышу. И добыл полтора килограмма чистого золота.
Художник присвистнул:
– Откуда?
– От верблюда. Из трубы Монетного двора.
– Ничего себе! А как же это?..
– Элементарно. Идея на поверхности лежит. – Леон пыхтел сигарой и наслаждался произведенным эффектом. – Золото – пылинка за пылинкой, год за годом – вместе с дымом вылетало из трубы Монетного двора и оседало на железной крыше.
– Деньги из воздуха!
– Именно так, старичок! – Он похлопал Тиморея по плечу. – Ты же умный парень. Что ж ты не можешь себя найти в современной России?
У Простакутова появились барские нотки в голосе.
– Я не терял себя, – сдержанно ответил Дорогин. – Сегодня часто можно услышать: «Если ты такой умный, то почему такой бедный?» И ты, похоже, это имел в виду, только сказать постеснялся. Знаешь, Леон… Размышляя на эту тему, я пришёл к неожиданному выводу.
– Ну-ка, ну-ка, интересно.
– Умный обязательно будет богатым, а мудрый может позволить себе оставаться бедным, ему хватает мудрости не гнаться за богатством, не тратить душу на пустяки.
Леон помолчал, «переваривая». И неожиданно протянул ему руку – пожал.
– От души, старичок. Молодец! Жалко, что я бросил журналистику, мы бы с тобою побеседовали. Значит, решил не сдаваться? Творить? Как в доброе советское время? С хлеба на квас перебиваться? – Леон ухмыльнулся, мерцая золотом зубов. – Да, старичок, творить – это великое дело. Удачи тебе.
Разговор состоялся года четыре назад. С тех пор не виделись. И уж совсем не ожидал художник, что следы Леона Простакутова обозначатся на северных широтах…
3
Сухая заполярная осень широко шумела и цвела – дразнила красными флагами рябин и осин. И старенький обшарпанный вертолёт «дразнил» красными звездами на боках и на пузе. Техника была ещё советская, изношенная; рассыпалась иногда прямо на лету, но денег на покупку новой почему-то не находилось. Зато кругом аэропорта – на стоянках – виднелись дорогие заморские машины. Роскошно одетые дамы и господа ходили – земли под ногами не чуяли. Возле крыльца аэропорта валялись пустые пачки заграничных сигарет, фигурные бутылки из-под виски, джина или рома, произведенных и разлитых в каком-нибудь заплесневелом подвальчике у тёти Дуси.
Оказавшись в полутёмном вертолетном чреве, Тиморей серьёзным голосом попросил парашют, обращаясь к молодому чернокудрому пилоту. Тот посмотрел на него, как на больного.
– Сроду парашютов не было.
– Как это – не было? – настаивал Дорогин. – Я не первый раз лечу. Всегда парашют выдавали.
Подошёл командир. Низкорослый бычок со свалявшейся шерстью на крупной голове.
– В чем дело? – спросил, лениво пожевывая жвачку.
– Да вот… Парашют подавай господину.
– Зачем? – «бычок» нахмурился, переставая жевать.
– А как же вы летаете без парашюта?
Командир внимательно посмотрел на пассажира, заметил дрожащую улыбку и, отворачиваясь, резко бросил на ходу:
– Цирк уехал, клоуны остались!
Тиморей загрустил. Даже неловко стало за свою дешевенькую шуточку. «Другие времена – другие нравы!» – подумал, вспоминая давний розыгрыш вертолётчиков.
– А где Мастаков? Вы не знаете?
Молодому командиру, видно, было неловко за свою резкость. Он повернулся к художнику.
– Абросим Алексеич укатил в Анапу.
– Насовсем?
– Пока что в отпуск, а через год – насовсем. Он купил домишко на берегу Чёрного моря.
– Понятно. А как там поживает Дед-Борей? Жив, здоров?
– А что ему станется? В воде не горит и не тонет в огне… Тьфу! То бишь – наоборот! Вы Мастакова знаете давно?
– Да уж порядочно…
– Тогда вы слышали, наверное, историю о том, как этот Дед-Борей из вертолёта вышел покурить?
– А это разве не анекдот?
– Не знаю. Абросим Алексеич рассказывал. А он мужик серьезный.
– О, да, согласен! – улыбнулся Тиморей. – Знаем мы этих серьезных!
История о том, как Дед-Борей «покурил в небесах», была похожа на анекдот.
4
…Охотник обморозился в ту зиму, появились первые признаки гангрены, грозившей руки-ноги отгрызть. Храбореев по рации вызвал вертолёт и свалился с температурой. Лежал в бреду. Не слышал, как вертушка приземлилась, как пилоты в избушку пришли.
– Дед-Борей! Подъём! – зашумел Мастаков. – Ну и холодрыга у тебя! Волков морозить!
Архангельский, помощник, сказал:
– Командир, он без памяти. И, похоже, давно.
Возле печки стояло ведро с водой. Вода закаменела от мороза. Ведерко лопнуло по шву. Отощавшая собака выла, крутилась в избушке.
– Глянь, командир. Она зубами все косяки соскоблила.
– Плохо дело. Ну-ка, помоги, Архангел!
Подхватили под микитки окоченевшего охотника. Потормошили. Даже не дрогнул ресничкой.
– Может, спирту ему?
– Да как ты ему дашь? Он же… почти готов.
– Вольём, и все дела! А то ведь можем не довезти. Руки у него – совсем ледяные.
– Только трупы мы ещё не возили… Ладно, тащи горючку! – приказал командир.
Накатили стакан спирту. Поначалу Дед-Борей чуть не захлебнулся, но скоро пошло как по маслу. Выпил. Расслабленно охнул и на мгновенье глаза приоткрыл. Безумным блуждающим взглядом посмотрел перед собой и снова забылся.
– Оживает!
– Отлично! Берём…
– Командир! А чего мы – ногами вперед?
– Тьфу, и в самом деле! Во, долбаки!
Собака, обычно как огня боявшаяся вертушку, пулей залетела в дверцу и спряталась под сидением. Полетели. Блаженно улыбаясь, охотник лежал на каких-то мягких мешках. Спирт разгорелся в жилах, кровь разогнал. А Дед-Борей, когда дерябнет, всегда вспоминает о куреве. Так-то, трезвый, может не курить полмесяца и больше, а уж когда маленько врезал, тут уж надо «в зубы дать, чтобы дым пошел». Натура такая. И вот он – ещё не приходя в сознание, на автопилоте, так сказать, пошарил по карману, где лежала помятая пачка. Открыл глаза, зевнул и, не соображая, где находится, пошёл покурить «на крыльцо».
Абросим Алексеевич потом рассказывал:
– Слышу, какой-то сквозняк. Повернулся… Что такое?! Дверца нараспашку! А высота – метров пятьсот над уровнем моря. И сто метров над перевалом, где пролетали… Всё, думаю, тюрьма! Убился Дед-Борей!
Резко развернув машину, Мастаков пошёл на бреющем полете. А сумерки уже – скоро полярная ночь, темнеет рано. Поискали в полумгле. Ни черта не видно. Прямо над вершиной пролетели – чуть винтом не зацепили.
– Командир! – закричал Эдик Архангельский. – Гляди! Там огонек… Избушка, что ли?
– Здесь не должно быть зимовья. – Мастаков присмотрелся. – Правда, что-то блеснуло… Давай приземлимся.
Вертушка опустилась на голый плоский камень, обдутый ветром. А неподалеку опять огонек замаячил осиновым листом. Они прошли по снегу, проваливаясь то по пояс, то по грудь.
– Эй, кто здесь? – окликнул командир.
– Я… Кха-кха…
– Кто «я»? Вы никого здесь не видели?
– А кого тут увидишь? – сказал человек хриплым голосом. – Темно. Что потеряли-то?
– Груз… – крикнул командир и подумал: «Груз двести».
Пилоты подошли и ахнули. Дед-Борей сидел на берегу заледенелой реки, смолил цигарку. Случилось то, что люди именуют чудом. Траектория полета охотника совпала с наклоном заснеженной горы. Колобком прокатившись по мягкому склону, Храбореев оказался в ущелье. На нём лишь кое-где порвалась одежонка – ни царапины, ни синяка, не говоря уже о переломах. Только в голове прибавилось «туману»: не мог понять, где он находится и почему пилоты радостно ржут и пританцовывают вокруг него:
– Живой? Ну, ты даешь, Дед-Борей! Ты куда сиганул? По нужде, что ль, сходить?
Посмотрев на папиросу, он задумчиво сбил пепелок:
– Покурить захотелось.
Вертолетчики хохотали всю дорогу до города. Но главный смех ждал впереди (и смех, и грех). Около месяца охотник провалялся в больнице. Гангрены удалось избежать; Дед-Борей на радостях вышёл из больницы и решил это дело отметить с друзьями. Посидел в ресторане, лишку принял на грудь и, уходя, упал с крыльца – ногу сломал. С той поры маленько припадает при ходьбе, а когда приходится отвечать на вопросы досужих «туристов», Дед-Борей, не моргнувши глазом, говорит: «С медведем повстречались на узенькой дорожке!»
Анекдотическую эту историю вертолетчики могли бы списать на счастливый случай, редкий случай. Только мешала одна закавыка. В момент падения Северьяныча – если прикинуть по времени – все электронные устройства в кабине дали сильнейший сбой. Как будто вертушка пролетала над большой магнитной аномалией. Погасли щитки приборов, высотомер отключился и даже двигатель будто заглох – тихо стало. И в эти мгновения внезапно появилось странное сияние, длинным золотым ручьем пролившееся над Землей. Что это было? Пилоты лишь руками разводили. А за спиною у них кое-кто болтал про сказочного отрока, на оленях летающего по небу. Дескать, это он помог.
5
В районе Полярного круга стояла хрустальная, прозрачная погода. Небо, промытое осенними дождями, казалось близким и необыкновенно голубым. Горы манили своей доступностью: в чистом воздухе они мерещились такими близкими – рукой погладить можно.
Над горами гуси рано пролетели – скоро холода нагрянут, верная примета. Храбореев – особенно по молодости – изумлялся: какие такие приборы и датчики могут стоять в голове у гуся, так безошибочно чующего непогоду? Она, головенка-то гусиная, с кулак величиной, а вот поди ж ты…
«Древний голос крови, – вспоминались умные речи дядьки Никанора, профессора из Мурманска. – Древний голос, генетическая память… – Северьяныч задумался, глядя на художника. (Тот пошел порыбачить). – А что же мне мой древний голос крови говорит насчет Тимохи? Потолковать с ним? Или уж не надо парня баламутить? Пускай живёт, как жил… Ах, Люба, Люба! Любушка-голубушка. Надо было разыскать её. Голос крови-то мне правильно подсказывал. А теперь уж поздно. Если Тимка сам не заикнётся, я ничего не стану говорить… Прошлое ворошить ни к чему!»
Храбореев сунул руку за пазуху. Достал небольшой потёртый колокольчик. Позвенел под ухом. Разволновался и попробовал верхней губой до носа дотянуться. И вдруг почувствовал сильное сердцебиение, головокружение – разволновался. «Вот так подохнешь! – затосковал. – И схоронить будет некому…»
Он вышел на свежий воздух.
Тиморей сидел на берегу, неподалеку от зимовья.
– Сынок! Иди, чайку попей!
Слово «сынок» Храбореев произносил теперь как-то особенно. Многих в своей жизни называл он этим ласковым словом – сынок. Но это было походя, примерно так же, как люди говорят друг другу: «брат», «сестра», земляк». Теперь для него это слово звенело совсем по-другому – золотым валдайским колокольчиком.
Он подошел к художнику.
– Малюешь? А я думал, ты рыбалишь тут. Ничего, если я постою, посмотрю?
Парень улыбнулся.
– Мы за смотрины денег не берем. Не жалко.
Помолчав, Храбореев сказал удивленно:
– Ловко получается. Картинка, можно сказать, из ничего, из воздуха…
– Ну, что ты, Северьяныч! Мне далеко до них!
– До кого?
– До мужиков, которые могут деньги из воздуха делать.
Покачав головой, Храбореев уверенно ответил:
– Нет, сынок! Это им до тебя далеко. Я раньше тоже думал: «деньги, деньги…» Но дело не в деньгах…
– А в чём же дело, батя? В чём, как говорится, корень бытия?
Под сердцем охотника – будто чиркнула пуля. «Батя». Художник произнёс это легко. Играючи. Северьянычу даже стало немного обидно…
– Корень жизни, говоришь, сынок? Это как посмотреть на неё, на житуху. Пойдём. А то руки, гляжу, посинели.
В зимовье потрескивала печь. Сидели, пили чай и говорили обо всём на свете. Искали «корень жизни». Антону Северьянычу было хорошо такими вечерами. Выходя из зимовья, он смотрел на небо и крестился, благодарил всевышнего за ту несказанную радость, какая была на душе.
Стужа приходила по утрам. Ножевыми ветрами разодранное пространство кто-то пытался штопать белыми нитками – редкие снежинки мелькали косыми стежками. Первые льдины зарождались в верховьях и с перезвоном высыпались из речного рукава, блестели в широком устье. И на озере уже припаивались робкие забереги. Утром выйдешь умыться, разобьёшь лазурную стекляшку. Руки сунешь – будто в костер. Обжигает водичка. Постоишь на берегу и улыбнешься. Красота! Заморозки покрошили комара и гнуса, – не докучает колючая тварь… Давненько Тиморей мечтал вот так-то душу отвести, с удочкой посидеть на берегу или просто побродить, вдыхая аромат сгоревшей осени, любуясь небом, горами, буровато-желтым листарём, струящимся по реке. Он собирал горстями, ел фиолетовую горьковато-сладкую голубику, пришибленную морозцем. Рвал кисточки яркой смородины – стылым горошком таяла во рту. Среди моха и лишайников собирал морошку, пугая куропаток.
В эти дни Храбореев далеко не отлучался от зимовья. То и дело подходил к Тиморею. Что-нибудь рассказывал, показывал.
– Гляжу, морошку лопаешь, – сказал охотник, глазами показывая на дальний берег. – На Тайгаыре, вон там, морошки было раньше – завались. Куропатка жировала, как барыня. Наклюется, бывало… Слышь, сынок! Не поверишь! Куропатка, бывало, так наклюкается, что её, беднягу, шатает. И взлететь не может. Ей-богу. Ягоды полное брюхо. – Северьяныч посмеивался. – Я голыми руками их ловил по молодости.
6
Вечером опять сидели в зимовье. Душевно беседовали.
Северьяныч расспрашивал художника:
– Ты, сынок, не женатый? Нет? Ну, это успеется. А как там житуха у вас, в Ленинграде?
– Да так же, как в Петербурге, – улыбнулся Дорогин.
– Картинками питаешься? Или чем другим на жизнь зарабатываешь?
– Картинками. Нарисую маслом… салом иногда рисую… Вкусные картинки получаются. – Парень вздохнул. – А ты здесь, батя, как? После развала нашей великой державы?
Охотник прислушивался. Слово «батя» сегодня художник снова походя сказал. Но появился в нём, в этом слове, какой-то неуловимый оттенок. Более теплый, что ли. Более родной. Или так уж показалось Храборееву.
– Да мне-то что, сынок. Тайга и тундра всегда прокормит, только не ленись. Мне – хоть белые, хоть красные у власти, хоть серо-буро-малиновые с прописью… Смешно, сынок, за ними наблюдать. Прыгают как блохи на арене.
– Я тебе, Северьяныч, завидую. Может, и мне попробовать? Послать всё подальше, уйти сюда – рыбачить да охотиться. Что скажешь?
– Давай. Места хватит. Поставим зимовье… да хоть вон там, на берегу. Сиди, малюй себе… Делай картинки из воздуха. – Храбореев поцарапал шрам возле виска.
Зоркие глаза художника приметили:
– Раньше, кажется, не было этого шрама. А, батя?
– Не было, – неохотно сказал Северьяныч. – Свежая зарубка. На память об одном человеке… Его и человеком-то не назовешь, прости, Господи. – Охотник перекрестился, глядя куда-то вдаль. Тихо добавил: – А ведь я кормил его, как малое дитё. С ладошки…
– Ты про кого говоришь, Северьяныч?
– Был тут один… Проститутов… Жульёрист окаянный.
Художник вскинул кисточки бровей.
– Проститутов? Или – Простакутов?
– Хрен его знает. В паспорт не заглядывал.
– А звали как? Леон?
– Миллион, ага. Только цена ему – рупь. Он тогда на Север прилетел деньги из воздуха делать, как он сам говорил. В Норильске, сам знаешь, бывает – не продохнешь от газа. Вот он писал про это дело. А уж потом, когда развалили Советский Союз, он, как змей подколодный, извернулся, начал в Москве промышлять золотишком. Ну и до меня добрался… по старой памяти…
– А ты при чём?
– А я, сынок, при нём. При золоте… Ты не смотри, что я драный такой. Штаны с заплатками… Если хочешь знать, так я – Царь-Север…
Храбореев хохотнул.
Художник уже знал, что Северьяныч – маленько того… с причудами. Поэтому не удивился.
– Загадками какими-то, батя, говоришь.
Охотник полено подбросил в печь. Покурил.
– Расскажу как-нибудь. А пока давай на боковую… Значит, ни хрена тебе не плотют за твои картинки?
– Нет, почему же? Хрен да маленько платят.
– А вот эта книга, про которую ты сказал: «Смотришь в книгу. А видишь фигу».
– Красная книга.
– Ну, да. Ты для нее сейчас малюешь. Так я понял? А что потом? Печатают? Книги-то?
– С грехом пополам. Денег нет, Северьяныч. На всякую дребедень – на чернуху да на порнуху – всегда найдётся, а на что-нибудь доброе… Эх! Да что говорить!
– Ладно, спим. – Храбореев погасил керосинку. Заворочался на дощатых нарах. – А ты что-нибудь слышал про ураганное золото?
– Так, немного. А что?
– Ничего. Спи, сынок.
7
Тайга и тундра становились гулкими. Где-то в туманах на том озерном берегу временами слышался грозный гул и топот, похожий на отдаленный обвал, на приглушенный говор камнепада. Тиморей вначале недоумевал: что это может быть? Потом «дошло». Там, в полумраке северного куцего дня, шумел и кровью зацветал вековечно повторяющийся праздник плоти и дерзкого духа. Дикий северный олень выходил на знакомые, хорошо утоптанные тропы. Олени собирались в тучи, полные грома и страстных молний. Могучие быки жадно и властно разбивали косяки покорных самок на отдельные гаремы. Зорко и трепетно стерегли своих наложниц. Караулили ревниво, яростно, на время буйных свадеб напрочь забывая сон, жратву, питье и утрачивая спасительное чувство самосохранения.
Наступало «время волка». Еще недавно серые эти щенки были безобидными, беззубыми, и человек даже мог бы с ними спокойно поиграть – если, конечно, рядом нет мамаши. Но это – вчера. А сегодня – окрепли волки, вызверились, и уже самостоятельно учатся в потемках шастать по чернотропам. Волки ищут добычу и целенаправленно гонят её, подчиняясь неведомой силе инстинкта и, делая коронный свой прыжок под горло, безжалостно режут и рвут беззащитную плоть, как делали их серые отцы, деды и прадеды. С диким азартом и страшной страстью, кипящей в сердцах, молодые разбойники чуткими ноздрями припадают к таинственному воздуху тайги и тундры, прислушиваются и воровски приближаются к жертве, чуткой «бархатной» лапой стараясь не наступить на ветку, не раздавить предательский сучок. Но в эту пору к оленям приближаться небезопасно. Любовью раскаленный, по-богатырски мощный северный самец – любому волку намылит холку. Но голод не даёт стоять на месте, голод лишает рассудочности – подталкивает хищника к большому, теплому стаду, укрывшемуся в туманах, теребящихся откуда-то со стороны Медвежьей речки.
Охотник говорил:
– И волка нынче много. И оленя – пруд пруди…
Тиморей спросил:
– Тут, неподалеку, слышал я, идет забой оленя?
– Иде-е-т… Ты что хотел? Мяска?
– Нет. Просто посмотреть.
– Нашел на что смотреть! – вздохнул Северьяныч. – Забой оленя – это километров сто отсюда. Если на моторе дунуть вверх по реке, потом налево, потом направо…
– Потом немного волоком, потом чуть-чуть по воздуху! – засмеялся Тиморей. – Понятно. Очень близко. По вашим меркам… А ты, Северьяныч, говорят, вообще не бьешь оленя?
– По молодости кровушки хлебнул на том отстреле. До сих пор изжога!
8
…Год за годом, век за веком через Пясину проходят пути миграции северного дикого оленя. Зная это, люди из заготконторы заблаговременно готовили «десант». На исходе лета по берегам реки – в определенных местах – высаживались бригады, состоявшие из вербованных мужиков. Крепкие люди. Волевые. Толстокожие. С утра до вечера на берегу взвизгивали бензопилы. Дятлами постукивали молотки. В дерево вгрызался острозубый топор. Мужики – для самих себя – варганили времянки. Долбили морозильники в вечной мерзлоте. Сколачивали грубые тесовые помосты для разделки оленьих туш. Поднимали навесы от дождя. Завозили продовольствие, бочки с бензином для моторок. И много чего другого, необходимого для забоя и сохранности мяса.
…Вожак рано утром забрался на взгорок. Влажными ноздрями процедил прохладный воздух. Задумчиво посмотрел на изломанную линию горизонта.
На тундровых просторах догорало коротенькое северное лето, куцее – как хвост оленя. Август уже горячо подрумянивал щеки осинам. Желтизною тронуло березы, лиственницы. День за днем в тундре исчезали гнусавые кровопийцы. Появлялись вкусные грибы – лезли прямо из-под копыт, сами заглядывали оленю в рот. Житуха становилась – лучше некуда. Стужа еще далеко – за горами таится. Еще не пожухла трава, опаленная первыми утренниками, после чего она становится похожа на проволоку. Мох не огрубел от холода. Еще не застеклялись мелкие ручьи, не говоря о крупных. Казалось бы, живи и наслаждайся тут, среди еды, простора и покоя. Но нет, что-то заставляло вожака волноваться и думать: «Пора!»
И опять он чуткими ноздрями процеживал раноутренний воздух. И улавливал в нем слабые токи, бьющие по сердцу. Это – древний, вековечный зов. И с каждым днем тот зов становился все громче, внятней. И наступало утро, когда вожак в последний раз поднимался на каменный взгорок. Долго смотрел на зацветающую зарю и принимал нелегкое мужицкое решение: покидать привольный летний выгул, вести за собою многочисленный олений караван, нацеливаясь на юго-восток, на лесные пастбища Якутии и Эвенкии. Трудная будет дорога. Опасная. На пути оленей встретится немало озер, болот, оврагов. По горам пройдут, на рога наматывая пряжу туманов и облаков, обходя горячие осколки звезд, недавно разбившихся на перевале. Веселыми зелеными долинами протопают. И спустятся в такие угрюмые низины, куда солнце не может или не хочет заглядывать. Там, в звенящем затишке, в голубоватой затени повстречаются первые льдинки. Слюдяные пластины слоятся, нарастая друг на друга и твердея день ото дня, превращаясь в крепкую корку. Там роса твердеет по ночам – картечиной блестит. Там по следу бегут кровожадные волки – щетиной топорщатся холки. И кто-то слабый рухнет, окрасит землю кровью перерезанного горла. Таков закон природы – слабаков не должно быть. А сильные дальше пойдут, оставляя за собой десятки и сотни всевозможных преград.
И наконец-то оленье стадо выйдет – как на плаху – на берег Пясины.
И кто-то первый из мужиков обрадуется, глядя в бинокль:
– Идут!
И старший хладнокровно скажет:
– По местам, ребята.
9
Чёрт его дёрнул в тот год – согласился быть стрелком на забое. В напарники к нему определился некто Берлогов по прозвищу Трубадурик, мужик молодой, но от страха седой, с покалеченными пальцами на обеих руках.
Перед восходом солнца они забрались на свой наблюдательный пост – голый крутолобый мыс, выдающийся в реку. Храбореев, скучая, смолил папиросы, крутил колесико бинокля: окулярами шарил по дальнему берегу, утопающему в пуховом тумане, похожем на олений подшерсток. Зевали. Терпеливо ждали. Тело «дрожжами» наполнялось – прохлада час за часом въедалась в кожу, в кости. Костерок бы развести, да нельзя. Оленя отпугнешь.
Небо сочно посинело над горами, вершины подкрасились кровинкою первых лучей. Видимость улучшилась. И Северьяныч заволновался, шмыгая носом на ветру.
– Вон они, сынок! Нарисовались!
– А ну-ка дай, папаша, – Трубадурик взял бинокль.
С пологого берега стадо сплывало, напоминая остывающую лаву стального цвета. До слуха долетели слабые звуки затрещавших веток, застучали камни, задеваемые копытами.
– Куда они поперли? Там неудобица, – недоумевал Храбореев.
Его напарник не первый год мотористом ходил на забой.
– Стадо, – поучительно сказал он, сплевывая, – переплывает реку не там, где удобней, а там, где моча ударит в голову передовому оленю. Обычно это бывает важенка.
Похоже, моторист не врал. Важенка шла впереди. Не шла – заполошно рысила, оторвавшись от стада метров на тридцать и не оглядываясь даже на своего теленка: тот спотыкался, отставая, падал, не поспевая за мамкой. И так же, как телята, покорно спешили за важенкой гривастые, огромные быки.
Северьяныч снова покрутил колесико бинокля. Рассматривал стадо. У многих быков на рогах тряпками болтались окровавленные лоскутья кожи, содранные ветками деревьев…
Храбореев цокнул языком:
– Эх! Какие классные рога!
– Панты. – Напарник уродливые пальцы расставил «веером». – Мягкие панты, наполненные кровью. Ценная вещь!
Позднее эти рога могли бы очиститься от кожи, затвердеть в железо, а еще позднее отвалились бы, уступая место новым; чем старше бык, тем круче и мощнее вырастают и ветвятся у него рога; но этому, увы, не суждено случиться.
– Трубадурик, ты готов?
– Как юный пионер.
– Во, дурная какая, – прошептал Северьяныч, не отрываясь от бинокля. – Куда она лезет?
– Да она ж не видит ни черта.
– В очках надо ходить…
Прямо перед важенкой было превосходное место для переправы – мимо пробежала сослепу. Остановилась возле невысокого обрыва. Прошла по каменистому карнизу, отвесно отколотому в реку. Понюхала под ногами – и живой торпедой бросилась в воду. Стадо – за ней. Поперли как полоумные. Серыми комками повалились в воду и поплыли, тараня друг друга. Задние ряды смешались, со скрежетом и скрипом втаптывая камни в грязь и перебаламучивая заводь. А передние олени, отдуваясь от волны, шумно сопели, раздувая ноздри, хоркали, выкругляя влажные зрачки, в которых отражалась кровавая капля встающего солнца.
Что-то древнее, вечное мерещилось в этой картине: горы, небо, упавшее в реку, и олени, словно плывущие по небесам. И охотник поддался непонятному, грустному чувству. «Примерно так же, – подумал он, – оленьи стада переплывали эту реку и сто, и двести лет назад. И точно так же будут переплывать потом, когда на земле не останется даже памяти ни обо мне, несчастном стрелке, ни об этом культяпом придурке. Какого черта я согласился?!»
Храбореев пошевелил оружием.
– Не вздумай стрелять! – предупредил Трубадурик. – В копытах у оленей железа такая есть… «железою страха» называется.
– Знаю. Не читай ликбез.
– Что ты знаешь?
– Подыхающий олень оставляет метку на земле, и другие олени сюда уже не сунутся года два или три.
И ему вдруг захотелось выстрелить. Пускай олень пометит «железою страха» этот берег, чтобы завтра сотни и тысячи других собратьев уцелели. Надо же, как мудро все устроено в природе…
Головные олени уже доплывали до середины реки. Многочисленное рогатое стадо напоминало затонувший, от корней оторвавшийся лес, самосплавом двигавшийся к туманному противоположному берегу.
– Ну, все! По коням! – Культяпыми пальцами без ногтей Трубадурик поддернул бродни и, покинув укрытие, проворно сиганул в моторку. Намотал промасленный заводной шнурок. Дернул – нет. И снова намотал. И снова с силой дернул. Старенький «Вихрь» слабо кашлянул, пукнул дымком, но не завелся.
– Всегда вот так! В самый неподходящий момент или шпонку срежет… или понос! – моторист ругался, подкручивая какую-то мазутную гайку. – Начальство такие деньги огребает на забоях, а на технику, падла, жалеют…
– Не спеши, сынок!
– Потом будет поздно, папаша! Мы же с тобою почти одногодки. Чего ты заладил: «сынок» да «сынок»…
– Бьют не по годам, сынок, по ребрам.
– Да пошел ты! – Трубадурик разозлился, косясь на оленей. – Уйдут, заразы!
– А ну-ка, дай, культяпый… Я мотор попробую…
– Сиди. Управлюсь.
– Ну и враг с тобой. Пускай уходят.
Кусая губу, Трубадурик с новой силой и остервенением рванул шнурок, будто не мотор, а самого себя заводил для похода на «мокрое дело», как говорил Шышаев, бригадир по прозвищу Шышак, пять лет отбарабанивший в северных зонах строгого режима.
– Ну, что ты, стерва? – Трубадурик завел-таки мотор. И в тот же миг, как по команде, взревел второй мотор – в кустах неподалеку. И третий, и четвертый…
Испуганный заяц шарахнулся от высокого берега, роняя каметтгки в воду. Какая-то птица, вереща, по-над землей расстелилась, улепетывая подальше от вони и грома.
– Опередили, в рот компот! – хохотнул Трубадурик. – Думал, первым пойду…
Распуская длинные «усы» вдоль скуластого носа, самая проворная моторка вырвалась из укрытия, но вскоре движок поутих. Догоняя стадо, моторист перешел на самый малый ход. Стрелок, глыбой возвышаясь над моторкой, широко расставив ноги, прицелился и дробовым зарядом шарахнул по затылку плывущего оленя. Близко было до цели, два-три метра. Темная кровь ударила фонтаном по моторке и конопушками подкрасила хищную харю стрелка. Отстрелянная гильза полетела под ноги, зашипела на мокром днище.