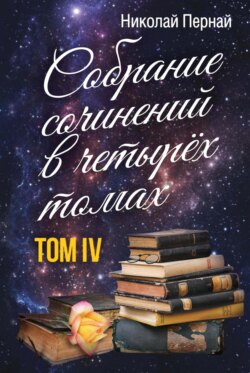Читать книгу Собрание сочинений в четырех томах. Том 4 - Николай Пернай - Страница 8
Наш путь
От «сталинского» социализма к нынешнему капитализму
Дальше – куда?
Часть первая
Наше «сталинское» прошлое
Глава 6. Сталин – Верховный Главнокомандующий Победы
ОглавлениеЧто было сделано Сталиным
и руководством страны для отпора врагу?
За первый год войны с немцами мы разом потеряли бо́льшую часть личного состава кадровой Красной Армии – 5,7 млн солдат и офицеров. Далее мы могли воевать только своими резервистами и новобранцами.
На оставленной к лету 1942 года советской территории в распоряжении Гитлера осталось около 65 млн человек. Если сюда прибавить потери Красной Армии, ее военнопленных, то это превысит 70 млн человек. Это почти 40 % людских потерь для СССР!
Потери страшные, но несмотря на это, мы продолжали сражаться с немцами в конце концов победили их!
Генерал-полковник Л. Г. Ивашов считает: «Нас спасли от окончательного разгрома модель социалистической экономики с её огромными мобилизационными возможностями, наличие стратегических резервов, хорошая обучаемость командного состава в ходе войны и, как немодно сегодня звучит, – организаторская работа партийных организаций ВКП(б) всех уровней. Именно партийные организации, пронизывая все структуры советского общества, стали важнейшими организаторами мобилизации страны на отпор врагу. Мощный предвоенный задел, сделанный Сталиным и Компартией перед войной, спас страну от поражения»[67].
Как известно, Сталин приложил очень много усилий для того, чтобы совместно с Великобританией и США создать антигитлеровскую коалицию, мощный военный союз, противостоящий «оси Рим-Берлин-Токио». Совместные действия коалиции, при всей несхожести интересов и целей её членов, можно оценивать как один из решающих факторов победы над фашистской Германией и её союзниками.
В связи с началом войны потребовалось преобразовать всю систему высшей власти Советского Союза.
В первые дни войны Сталин в течение целой недели, не предпринимал кардинальных действий по изменению сложившегося положения. (Почему? На этот вопрос пока нет однозначного ответа.) Всё шло по ранее намеченным планам, по привычным, наезженным путям до тех пор, пока Сталин не понял, что стратегию руководства страной надо срочно менять.
После крайне неприятного инцидента между Сталиным и Жуковым-Тимошенко 26 (по другим данным 29) июня 1941 года в Наркомате обороны Сталин был потрясен не столько неспособностью, сколько явным нежеланием начальника Генштаба генерала Жукова и наркома обороны маршала Тимошенко доложить объективную картину военных действий, особенно, на Западном фронте. Дело попахивало саботажем военного руководства. И тогда Сталин понял, что нужно немедленно брать инициативу в свои руки. Выход был один – создать и возглавить Государственный комитет обороны – высший чрезвычайный орган руководства обороной страны.
Легитимным путем он создал новый орган управления – Государственный Комитет Обороны (ГКО). Видя, что дела идут плохо, 19 июля он взвалил на себя также еще и пост наркома обороны СССР, а 10 июля – должность Председателя Ставки Верховного командования (преобразованную 8 августа в должность Верховного Главнокомандующего Советскими Вооруженными силами).
ГКО стал чрезвычайным органом управления, обладавшим всей полнотой власти. В ГКО, из ведения Совнаркома СССР были переданы наркоматы оборонной промышленности: Наркомавиапром, Наркомтанкопром, Наркомбоеприпасов, Наркомвооружения и др. Учитывая, что Сталин был еще и Председателем Совнаркома, и Секретарем ЦК ВКП(б), получается, что он занимал 5 важнейших постов.
«Такое объединение в лице Сталина функций партийного, государственного и военного руководства не означало, что он в годы войны единолично решал все вопросы, – пояснял маршал А. М. Василевский. – Это означало – жесткую централизацию всех ресурсов, что в условиях войны было крайне необходимо». (Между прочим, сегодня даже наши западные оппоненты склонны считать, что «тоталитарный» политический режим – к коему они относят и сталинский – в экстремальных, в том числе военных, условиях способствовал мобилизации и консолидации народа, и он был более эффективен, чем либерально-демократические политические режимы.)
Многие говорят, что ГКО – это Сталин. Отчасти это верно, потому что его умение сосредоточиваться на решении важнейших задач, скрупулезно до деталей анализировать стремительно меняющуюся военную обстановку, правильно её оценивать и принимать взвешенные решения, его целеустремленность и мужество, его мощная воля и талант задавали соответствующий стиль работы ГКО и Ставки ВГ. Заседания ГКО проходили в кремлевском кабинете, на ближней даче или в одном из бункеров ГКО.
Но ГКО был органом коллективным, а Сталин никогда не стремился к единоличным решениям, напротив, он предпочитал любое серьёзное дело обсуждать коллегиально.
В состав ГКО в 1941 году входили: Молотов (заместитель председателя), Ворошилов, Маленков, Берия; с 1942 года Микоян, Вознесенский, Каганович; с 1944 года Булганин. Каждому члену ГКО Сталин поручил определенный круг вопросов.
Председатель ГКО Сталин жестко требовал исполнения порученных заданий.
Как работал Сталин?
В течение войны ГКО принял 9971 постановление, не считая многочисленных телеграмм, резолюций на документах, устных распоряжений.
«Всё, – свидетельствовал А. М. Василевский, – что вырабатывалось тут при взаимных консультациях и обсуждениях, немедленно оформлялось в директивы Ставки фронтам. Такая форма была эффективной».
Основным оперативным рабочим органом Ставки ВГК являлся Генштаб РККА. Начальники Генштаба почти ежедневно, а иногда и по несколько раз в сутки, бывали у Сталина. Так, Жуков (с января по июль 1941 года) встречался с ним 16 раз, Шапошников (с августа 1941 по май 1942 годов) был у Сталина 98 раз, Василевский (с июня 1942 по февраль 1945 года) – 199 раз, Антонов (с февраля 1945 года, а также, замещая Василевского, – 238 раз). Сталин много работал также с другими ответственными работниками ГШ, а также – с чинами помладше: майорами и подполковниками.
Ответственный работник Генштаба генерал С. М. Штеменко писал об оформлении директив: «Часто такие распоряжения формулировались прямо в Ставке. Сталин диктовал, я записывал. Потом он заставлял читать текст вслух и при этом вносил поправки. Эти документы, как правило, не перепечатывались на машинке, а прямо в оригинале поступали в находящуюся неподалеку аппаратную узла связи и немедленно передавалась на фронты».
Многие документы были написаны Сталиным лично. И в каждом из них виден его почерк, его стиль изложения: мыслей кратких по объему, но широких по смыслу.
Распорядок деятельности Ставки был круглосуточным и определялся регламентом самого Верховного, работавшего, как правило, в вечернее и ночное время, по 12–16 часов в сутки.
«Доклады Верховному, – вспоминал Штеменко, – делались три раза в сутки. Первый из них имел место в 10–11 часов дня, обычно по телефону…
Между 10 и 11 часами, редко чуть позже, Верховный сам звонил к нам. Иногда здоровался, а чаще прямо спрашивал: «Что нового?» Начальник оперативного управления докладывал обстановку, переходя от стола к столу с телефонной трубкой у уха. … Пропускать в докладе какую-либо армию, если даже в ее полосе за ночь не произошло ничего важного, Сталин не позволял. Он тотчас перебивал докладчика вопросом: «А у Казакова что?»…
Вечером в 16–17 часов Сталину «докладывал заместитель начальника Генштаба. А ночью мы ехали к нему в Ставку с итоговым докладом за сутки… Доклад наш, – пишет Штеменко, – начинался с характеристики действий своих войск за истекшие сутки. Никакими предварительными записями не пользовались. Обстановку знали на память, и она была отражена на карте…»
Штеменко особо отмечал: «… Сталин не решал и вообще не любил решать важные вопросы войны единолично. Он хорошо понимал необходимость коллективной работы в этой сложной области, признавал авторитеты, считался с их мнением …»
Генерал армии А. В. Хрулев рассказывал историку Куманеву: «Вы, возможно, представляете это так: вот Сталин открыл заседание, предлагает повестку дня, начинает эту повестку обсуждать и т. д. Ничего подобного! Некоторые вопросы он сам ставил, некоторые вопросы у него возникали в процессе обсуждения, и он сразу вызывал: это Хрулева касается, давайте сюда Хрулева; это Яковлева касается, давайте сюда Яковлева … И всем давал задания…
В течение дня принимались десятки решений. Причем не было так, чтобы Государственный комитет заседал по средам или пятницам; заседания проходили каждый день и в любые часы, после приезда Сталина…»
«Он приезжает, – рассказывал Хрулев, – допустим в 4 часа дня к себе в кабинет в Кремль и начинает вызывать. У него есть список, кого он вызывает. Раз он приехал, то сразу все члены Государственного комитета вызывались к нему. Заранее он их не собирал. Он приезжал, – и тогда Поскребышев начинал всех обзванивать».
Хрулев: «И в ставке, и в ГКО никакого бюрократизма не было. Это были исключительно оперативные органы… На заседаниях не было никаких стенограмм, никаких протоколов, никаких технических работников».
Начальник Главного артиллерийского управления РККА маршал артиллерии Н. Д. Яковлев говорил об атмосфере деловой демократии: «…Когда Сталин обращался к сидящему (я говорю о нас, военных, бывших в Ставке), то вставать не следовало. Верховный еще очень не любил, когда говоривший не смотрел ему в глаза. Сам он говорил глуховато, а по телефону тихо.
Работу в Ставке отличала простота, большая интеллигентность. Никаких показных речей, повышенного тона, все разговоры – вполголоса. Помнится, когда И. В. Сталину было присвоено звание Маршала Советского Союза, его по-прежнему следовало именовать «товарищ Сталин». Он не любил, чтобы перед ним вытягивались в струнку, не терпел строевых подходов и отходов». Сталин совершенно не выносил лжи.
«Очень часто на заседаниях ГКО, – писал маршал Г. К. Жуков, – вспыхивали острые споры, при этом мнения высказывались определенно и резко. Сталин обычно расхаживал около стола, внимательно слушая спорящих. Сам он был немногословен, многословия других не любил, часто останавливал говорящих репликами: «Короче!», «Яснее!». Заседания открывал без вводных вступительных слов, говорил тихо, свободно, только по существу вопроса. Был лаконичен, формулировал мысли ясно».
«Если на заседании ГКО, – отмечал Жуков, – к единому мнению не приходили, тут же создавались комиссии из представителей крайних сторон, которой предлагалось доложить согласованные предложения».
Адмирал Н. Г. Кузнецов впоследствии писал: «Часто Сталин соглашался с мнением командующих. Мне думается, ему даже нравились люди, имевшие свою точку зрения и не боявшиеся отстаивать ее».
Нарком вооружений Д. Ф. Устинов отмечал: «При всей своей властности, суровости, он живо откликался на проявление разумной инициативы, самостоятельности, ценил независимость суждений … он не упреждал присутствующих своим замечанием, оценкой, решением. Зная вес своего слова, Сталин старался до поры не обнаруживать отношения к обсуждаемой проблеме, чаще всего сидел будто бы отрешенно или прохаживался почти бесшумно по кабинету, так что казалось, что он весьма далек от предмета разговора, думает о чем-то своем. И вдруг раздавалась короткая реплика, порой поворачивающая разговор в новое и, как потом зачастую оказывалось, единственно верное русло».
«Зная огромные полномочия, – писал в своих мемуарах маршал И. Х. Баграмян, – и поистине железную властность Сталина, я был изумлен его манерой руководить. Он мог кратко скомандовать: «Отдать корпус!» – и точка. Но Сталин с большим тактом и терпением добивался, чтобы исполнитель сам пришел к выводу о необходимости такого шага». «Мне, – продолжал Баграмян, – частенько самому приходилось уже в роли командующего фронта разговаривать с Верховным Главнокомандующим, и я убедился, что он прислушивался к мнению подчиненных. Если исполнитель твердо стоял на своем и выдвигал для обоснования своей позиции веские аргументы, Сталин почти всегда уступал».
Маршал артиллерии Н. Д. Яковлев вспоминал: «Слово Верховного было законом. В первый год войны я часто, почти каждый день вызывался в Ставку и убеждался в безукоснительном выполнении всеми его указаний»
И. Х. Баграмян: «Верховный был немногословен. Он больше слушал, изредка задавая короткие, точно сформулированные вопросы».
Авиаконструктор А. С. Яковлев: «Сталин предложил создать несколько специализированных истребительных корпусов, подчиненных Главному Командованию, с тем, чтобы использовать эти части для массированных ударов в воздухе на решающих участках фронта». Практически только после этого стратегического решения советская авиация стала господствующей в небе войны.
Стиль работы Сталина, по всеобщему признанию, был деловой, без нервозности. Сталин, вопреки распространяемым о нем слухах, не ругался матом.
Главный маршал авиации А. Е. Голованов отмечал: «Вся жизнь Сталина, которую мне довелось наблюдать в течение ряда лет, заключалась в работе. Где бы он ни был – дома, на работе или на отдыхе, – работа, работа и работа. Везде и всюду работа. Везде и всюду дела и люди. Рабочие и ученые, маршалы и солдаты … Огромное число людей побывало у Сталина».
«Характерной чертой Сталина была поразительная требовательность к себе и другим … И я не помню случая, чтобы кто-то что-то перепутал или выполнил не так, как нужно. Ответственность за порученное дело была столь высока, что четкость и точность исполнения были обеспечены. Я видел точность Сталина даже в мелочах. Если вы поставили перед ним те или иные вопросы, и он сказал, что подумает и позвонит вам, можете не сомневаться: пройдет час, день, неделя, но звонок последует и вы получите ответ».
«Слово «я» в деловом лексиконе Сталина отсутствовало. Этим словом он пользовался лишь рассказывая лично о себе. Таких выражений, как «я дал указание», «я решил» и тому подобное, вообще не существовало, хотя все мы знаем, какой вес имел Сталин и что именно он, а не кто другой, в те времена мог изъясняться от первого лица. Везде и всегда у него были «мы».
Наркомзем И. А. Бенедиктов писал: «Я десятки раз встречался со Сталиным, видел, как он решает вопросы, как относится к людям, как раздумывает, колеблется, ищет выходы из сложнейших ситуаций…
Вопреки распространенному мнению, все вопросы в те годы, в том числе и относящиеся к смещению видных партийных, государственных и военных деятелей, решались в Политбюро коллегиально. На самих заседаниях Политбюро часто разгорались споры, дискуссии, высказывались различные, зачастую противоположные мнения … Безгласного и безропотного единодушия не было – Сталин и его соратники этого терпеть не могли…
Мы, хозяйственные руководители, знали твердо: за то, что возразишь «самому», наказания не будет, разве его мелкое недовольство, быстро забываемое, а если окажешься прав, выше станет твой авторитет в его глазах. А вот если не скажешь правду, промолчишь ради личного спокойствия, а потом все это выяснится, тут уж доверие Сталина наверняка потеряешь, и безвозвратно. Поэтому и приучались говорить правду, невзирая на лица не щадя начальственного самолюбия».
В случаях планирования отдельных стратегических операций он создавал своеобразные КОЛЛЕКТИВЫ. В них входили специалисты Генштаба, командующие фронтами и лица, ответственные за материально-техническое обеспечение.
Маршал Г. К. Жуков рассказывал писателю К. Симонову, что у Верховного Главнокомандующего «был свой метод овладения конкретным материалом предстоящей операции … Перед началом подготовки той или иной операции, перед вызовом командующих фронтами он заранее встречался с офицерами Генштаба – майорами, подполковниками, наблюдавшими за соответствующими оперативными направлениями.
Он вызывал их одного за другим на доклад, работал с ними по полтора, по два часа, уточняя с каждым обстановку, разбирался в ней и ко времени встречи с командующими фронтами, ко времени постановки им новых задач оказывался настолько подготовленным, что порой удивлял их своей осведомленностью».
Адмирал И. С. Исаков подчеркивал: «Надо сказать, что он вел заседания по принципу классических военных советов. Очень внимательно, не прерывая, не сбивая, выслушивал всех. Причем старался давать слово примерно в порядке старшинства, так, чтобы высказанное предыдущим не сдерживало последующего. И только в конце, выловив все существенное из того, что говорилось, отметя крайности, взяв полезное из разных точек зрения, делал резюме, подводя итоги».
«В его деятельности не было трафаретности, закомплексованности, спешки и суеты. Планы намеченных кампаний и операций могли меняться в зависимости от внешних обстоятельств. И тогда, – отмечал маршал К. А. Мерецков, – он снова вызывал командующего фронта в Москву…»
Многих современников поражало знание Сталиным деталей, тактико-технических характеристик кораблей, самолетов, танков и других видов вооружения.
Для получения объективной информации, контроля и помощи командующим фронтами на местах ведения боевых действий он использовал представителей Ставки. Этот институт стал своего рода изобретением Сталина в военном искусстве. Маршал А. М. Василевский вспоминал: «Ответственный представитель Ставки всегда назначался Верховным Главнокомандующим и подчинялся лично ему… Представители Ставки, располагая всеми данными о возможностях, замыслах и планах Верховного Главнокомандующего, оказывали существенную помощь командующим фронтами …» За годы войны Главковерх направлял на фронт 60 представителей Ставки ВГК и добивался, чтобы они тщательно отслеживали обстановку на фронте, оперативно реагировали на ее изменение и обеспечивали решение поставленных стратегических задач. Представителями Ставки в войсках по несколько месяцев находились Василевский, Жуков, Тимошенко, Воронов, Маленков и др. Сталин строго спрашивал с представителей Ставки и, случалось, отзывал с фронта или даже отстранял от должности за ненадлежащую исполнительность, невзирая на личности»[68].
Большое внимание Сталиным уделялось разведке. Много сил и средств тратилось на разведку. У Сталина было 4 вида разведки: контрразведка «Смерш» (Абакумов) подчинялась Сталину лично; ГРУ НКО СССР; политическая разведка системы НКВД СССР; воинская разведка Генштаба. В некоторых источниках упоминается о том, что была у него еще и личная разведка (это были профессионалы, бывшие представители военной разведки Российской империи, работавшие на Сталина еще с 1917 года). (Любопытно отметить следующее. Во многих странах мира, в первую очередь, в Германии, США, Великобритании, на Советский Союз работало много не только кадровых разведчиков, но добровольцев из числа ученых, священнослужителей, творческих работников, которые искренне сочувствовали борьбе советского народа с фашизмом. Это происходило главным образом потому, что авторитет Советского Союза в то время был колоссальным.)
Итак, характеризуя стиль руководства Сталиным, можно утверждать, что это был совещательный стиль, выражаясь по-современному – ПАРТИСИПАТИВНЫЙ СТИЛЬ РУКОВОДСТВА.
За годы войны было создано 35 фронтов. В 1942–1943 годах число фронтов доходило до 15. Главковерх лично работал со всеми командующими фронтами. Всего их было 45, в том числе: 11 маршалов и 34 генерала.
Сталин работал также с командующими армиями, лично знал многих военачальников, вплоть до командиров дивизий. Сталин работал также с командующими флотов: Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского, которыми в разное время командовали 7 адмиралов, а также – с речными и озерными флотилиями.
Много времени Сталин уделял формированию на территории СССР частей Войска Польского, а также частей чехословацкого армейского корпуса, которые на последних этапах войны сражались против немецко-фашистских войск.
За почти 4 года Великой Отечественной войны Красная Армия провела 51 стратегическую операцию, более 250 фронтовых и около 1000 армейских операций, из которых две трети были наступательными. О каждой локальной операции он знал все подробности, а все стратегические операции разрабатывались и проводились под руководством Ставки ВГК во главе со Сталиным. При его личном участии и под его жестким контролем осуществлялось их организационное, мобилизационное, материально-техническое, экономическое, идейно-политическое и дипломатическое обеспечение. Вопросы руководства ходом войны, по свидетельству Жукова, решались Сталиным как на официальных встречах и заседаниях, так и во время обедов и ужинов. При этом Сталин советовался с командующими фронтами и армиями, членами Военных советов, наркомами, конструкторами самолетов, танков, ракетного и стрелкового оружия, учеными, директорами оборонных заводов. Со многими встречался лично или вел обсуждение по засекреченной связи.
67
Ивашов Л.Г. Указ соч. – С. 43.
68
Все приведенные в данной главе цитаты маршалов, генералов, адмиралов, наркомов взяты из опубликованных ими мемуаров. Все выделения курсивом сделаны мною. – Н.П.