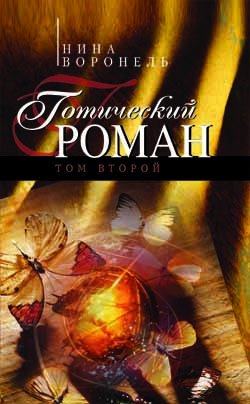Читать книгу Готический роман. Том 2 - Нина Воронель - Страница 4
Часть III. Полет бабочки
Ури
ОглавлениеСамолет тряхнуло, и Ури открыл глаза. За овальным окошком скользили перистые облака, косо освещенные заходящим солнцем. Судя по положению солнца, самолет летел на запад, что совпадало с направлением на аэропорт назначения, указанный в билете. Ури прильнул к прохладному стеклу иллюминатора, стараясь разглядеть медленно кружащуюся под крылом землю. Где-то под ними сейчас должен промелькнуть замок Инге, но вряд ли удастся различить его среди темной зелени леса, подернутого прозрачной дымкой теплого летнего воздуха. Лес смотрелся с высоты, как скопление водорослей на дне океана. Океан этот был спокоен и недвижен, однако от чего-то забытого прескверно саднило под ложечкой, и нужно было срочно вспомнить, от чего. Ури поспешно перелистнул страницы предотлетных впечатлений и по тягостному толчку в сердце определил причину тревоги – мать!
«Сообщение о том, что представлять Израиль на этих секретных переговорах будет его мать, Ури преподнесли в последнюю минуту перед отлетом вместе с новеньким паспортом на имя гражданина Германской Федеративной Республики Ульриха Рунге. Раз в переговорах будет участвовать мать, значит, речь там будет идти о воде. А за проблемой воды скрывается, конечно, неоглядный мир политических интриг. Именно поэтому во время долгих предварительных бесед Ури и не сказали о предстоящей ему встрече с матерью, – чтобы он раньше времени не пришел к заключению о воде. И не успел проболтаться Инге.
Что ж, пожалуй, так оно и лучше. А то бы Инге обязательно у него это выпытала. Ведь она так убивалась, так убивалась, что он уезжает от нее неведомо насколько, неведомо куда. И конечно, рассказ о его возможной трогательной встрече с ничего не подозревающей мамочкой мог бы слегка ее утешить и отвлечь от фантазий о тех бесчисленных опасностях и соблазнах, которые поджидали его в разлуке с ней. Уж что-что, а выпытывать Инге умела! Стоило ему вернуться из университета с крошечным секретом на задворках сознания, она каким-то седьмым чувством этот секрет тут же распознавала и начинала его выуживать. Иногда Ури и сам не знал, в чем его секрет состоит, он просто маялся неким невнятным дискомфортом, но Инге всегда умудрялась отыскать занозу и извлечь ее из его душевного тайника.
По всей видимости, прежде, чем предложить Ури взяться за это дело, ребята из Шин Бета отлично разведали подробности его жизни с Инге и решили, что чем меньше он будет знать, тем лучше. И он до последнего дня ничего и не знал, кроме того, что задание ему предстоит тайное и большой государственной важности. Лично для него это был удобный вариант прохождения резервной службы на ближайшие три года вперед плюс вполне приличный дополнительный заработок, что, вообще-то говоря, было за пределами всех принятых норм прохождения резервной службы. Но, похоже, и задание было тоже за пределами всех принятых норм.
О том, что он летит в Лондон, ему сообщили тоже только при вручении паспорта, строго-настрого оговорив заранее, что Инге не поедет провожать его в аэропорт. Запрет проводить его почему-то особенно уязвил Инге, как будто поспешный поцелуй в многолюдной очереди перед паспортным контролем мог хоть как-то смягчить для нее горечь разлуки.
После недолгих, но бурных пререканий они сговорились, что она проводит его только до железнодорожной станции и даже не пойдет с ним на перрон, чтобы не узнать, на какой поезд он сядет. Это последнее требование было совершенно бессмысленным, ибо направление поезда легче легкого вычислялось из расписания, после чего станция назначения была очевидна. Сообщив ему эту нехитрую мысль на вокзальном пороге, который ей не было позволено переступить, Инге сделала неловкую попытку рассмеяться, но вместо смеха у нее из груди вырвался сдавленный всхлип и на глаза навернулись слезы.
– Ты что? – лицемерно удивился Ури. – Я же не на войну ухожу.
– Сама не знаю, – Инге прижалась щекой к его щеке. – Меня будто в сердце иглой кольнуло. А вдруг я тебя больше никогда не увижу?
На душе у Ури похолодело, но он храбро улыбнулся и с притворным легкомыслием погладил ее по заметно округлившемуся животу:
– При твоих притязаниях на ясновидение такие слова произносить запрещено.
Она перехватила его ладонь и прижала к какой-то точке живота, откуда до него докатился легкий, но вполне ощутимый толчок.
– Слышишь, как стучит? Он тоже не согласен, чтобы ты уезжал.
Ури знал, что Инге полна разных противоречивых страхов: она боится оставаться одна, боится, что Ури угрожает опасность, боится, что, вырвавшись на свободу, он к ней больше не вернется. Для всех этих страхов у нее не было никаких оснований, но это не меняло дела, поскольку страх ее был сильней разума. Единственной победой разума над страхом была ее решимость на память об их любви родить этого маленького внебрачного кентавра, полунемца-полуеврея, – страх подумать, как завопит его мать, когда узнает!
Дольше тянуть с расставанием было слишком мучительно, к тому же до отхода поезда оставались считанные минуты. Ури еще раз ткнулся губами куда-то Инге за ухо и почти бегом пересек магическую черту, отделившую их друг о друга.
– Ты хоть звони мне иногда! – взмолилась ему вслед Инге.
У входа в туннель, ведущий к платформам, он не выдержал – оглянулся, совсем как жена Лота. Никаких стихийных бедствий от этого, к счастью, не произошло, только сердце у него стиснулось нехорошим предчувствием при виде Инге, как-то безвольно прислонившейся к капоту голубого «Фольксвагена-пассата», купленного ею два года назад в счет денег, предназначенных на реставрацию замка. Когда они обратились за этими деньгами в Бюро по охране памятников, стало ясно, что старый мясной фургон Инге не годится для успешных мотаний по разным бюрократическим инстанциям, и пришлось разориться на «Фольксваген». Остальные машины, необходимые для задуманных Вильмой реставрационных работ, были взяты напрокат, что обошлось им относительно недорого, благодаря деловым связям и не менее деловым способностям Инге.
Работы по реставрации велись интенсивно, тем более, что самые тонкие достройки Ури взял на себя и полтора года вкалывал, как ненормальный. В результате, к тому моменту, когда они приблизились к завершению первой стадии проекта, он мысленно почти присвоил это вырастающее из-под его рук архитектурное чудо, столько туда было вложено его труда. Во всяком случае он так здорово навострился в искусстве оживления мертвого камня, что без особых усилий был принят на второй курс реставраторского отделения при факультете истории средних веков. И то, и другое, конечно, не без помощи Вильмы, с которой он подружился за это время как с толковым партнером – просто счастье, что она была лесбиянкой, а то бы Инге ни за что не допустила этой дружбы.
Из долгих, но не просветляющих бесед с ребятами из Шин-Бета, один из которых называл себя Йоси, а другой Амос, – Ури почему-то был уверен, что это не настоящие имена, – он заключил, что именно благодаря его успехам в реставрации средневековых замков, ему и предложили участвовать в этой таинственной операции, суть которой была пока ему неясна. Знал он только, что где-то там, куда его посылают, он встретит свою мать, но не дай ему Бог хоть словом, хоть взглядом, хоть жестом навести кого-нибудь на мысль, что они вообще знакомы. Поскольку он – гражданин ФРГ Ульрих Рунге, рожденный в городе – он заглянул в свой еще не освоенный немецкий паспорт, на имя человека, родившегося в Шпеере от добропорядочных немецких граждан Ганса и Маргарет Рунге.
– А она знает, что я там буду? – спросил он Йоси, имея в виду мать. Йоси показался ему менее заносчивым, чем Амос. Не отвечая, Йоси поднял глаза на Амоса, тот кивнул.
– Ей скажут, когда придет время.
– Значит, когда я приеду, ее там еще не будет? – предположил Ури.
Амос пожал плечами:
– Тебе же сказали, что все инструкции ты получишь в Лондоне.
Ури почему-то показалось, что Амос сам понятия не имеет, в чем состоят эти инструкции, и на душе у него стало как-то веселей – ведь он-то завтра все узнает, а заносчивый Амос – никогда. Амос наверно тоже об этом догадывался и заносился, чтобы компенсировать превосходство Ури. По пути на посадку Амос и Йоси так напряженно обжимали Ури плечами, что он почувствовал себя арестантом, только наручников не хватало.
К его радости, они не стали подниматься вместе с ним по трапу, – значит, он полетит один. Он воспринял это как счастливый знак: может, все не так страшно и кончится хорошо. Чего он, собственно, всполошился? Похоже, вся эта дешевая игра в таинственность, в которую он за последние пару месяцев вовлекался все больше и больше, вконец раздергала его нервы. Да и страшновато было оставлять Инге одну в ее положении, тем более, что не все было ладно с организацией первых туристских групп, которые они только-только начали водить в реставрированные подвальные покои по воскресеньям. Кроме того не все удалось утрясти с нахалом Вальтером, который поторопился открыть свой ресторанчик у ворот замка, едва только появились первые посетители.
На прошлой неделе Вильма приступила к следующему этапу реставрации – к восстановлению сторожевых башен. Так что внезапный отъезд Ури, да еще на неопределенное время, сильно ее подкосил. По-честному, ее следовало бы заранее предупредить об отъезде, но ему велено было хранить все в строжайшей тайне. Он, правда, усердно изобретал разные малоубедительные предлоги, стараясь отсрочить начало работ, однако Вильму, которая двигалась к цели неуклонно, как бульдозер, непросто было отклонить от намеченного курса. Когда он, наконец, решился сообщить ей, что должен уехать срочно и неясно на сколько – домой, в Израиль, по таинственным семейным обстоятельствам, – она пробуравила его своими пронзительными кошачьими глазами и спросила:
– Ты ведь не сегодня решил уехать, правда?
– Решил как раз сегодня, – честно отвечая на ее взгляд соврал он.
– Но задумал давно? – настаивала она. – И потому морочил мне голову всякими глупостями. Почему было не сказать мне прямо?
– Я надеялся, что обойдется.
Вильма вздохнула и склонилась над расстеленным на столе графиком работ. Ури виновато следил, как она водит пальцем по четко расчерченным им самим клеткам – глядеть через ее плечо было удобно, потому что последнее время она стала стричься совсем коротко и ее бледные немецкие волосы, ничуть не заслоняя, стояли щеточкой вокруг ее маленькой головки. Поколдовав над графиком минуту-другую, она взяла красный карандаш и решительно перечеркнула все, что было намечено на ближайшие две недели.
– Боюсь, без тебя это все будет нереально. Если бы ты предупредил меня хоть за несколько дней, я, может, нашла бы на это время кого-нибудь другого.
– Никого бы ты не нашла! Ты отлично знаешь, что я незаменим, – попытался отшутиться Ури, прекрасно понимая, как он ее подводит.
Воспоминания об этом разговоре так поглотили его, что он даже не заметил, как самолет оторвался от взлетной полосы. Он очнулся только, когда их хорошенько тряхнуло и за окном заскользили золотистые перистые облака, косо освещенные заходящим солнцем. Дни стояли длинные, летние, и пока они летели над Францией, облака куда-то рассосались, так что сквозь клочковатую сизую дымку, стелющуюся между землей и самолетом, можно было различить ленточную структуру французского земельного хозяйства.
Над Францией Ури никогда раньше не летал, а из окна поезда все выглядело иначе. Любопытно было разглядывать с большой высоты крошечные полоски разных оттенков зеленого цвета, густо исчерченные вдоль и поперек тонкими линиями дорог. Очень скоро полосато-зеленая ткань земельного покрова оборвалась, сменившись серебристой гладью Ла-Манша в желтой оторочке пляжей. А за Ла-Маншем под крылом самолета стремительно начала разворачиваться Англия, тоже зеленая, но кроме цвета ничем не похожая на Францию. Лоскутки всех возможных оттенков зелени были здесь выкроены овальными лепестками и сгруппированы вокруг каких-то таинственных центров в причудливые розетки разных размеров, произвольно наложенные одна на другую.
Не успел Ури отметить в уме этот факт, как зеленые розетки исчезли под натиском набегающей армии маленьких белых домиков, каждый из которых был обособлен от соседей изумрудной оправой собственного сада, и самолет пошел на посадку. После получаса суетливых формальностей Ури, прикрытый, как щитом, немецким паспортом на имя немецкого гражданина, уроженца города Шпеера в земле Райн-Пфальц, шел к припаркованной на стоянке машине с английским регистрационным номером, тесно зажатый между широкими плечами лондонских двойников Амоса и Йоси. Один из них отрекомендовался как Йорам, другой – как Гиди, но Ури опять был уверен, что это не настоящие имена.
Они поджидали его в аэропорту возле вращающегося турникета, через который выходят в общий зал только что прилетевшие пассажиры. По их глазам было видно, что они узнали его сразу, едва он пересек зеленую линию таможенного досмотра, и неотрывно наблюдали, как он преодолевал те двадцать шагов, что отделяли эту линию от турникета. Он тоже узнал их сразу, хоть никогда до того не встречал, и, в отличие от них, не изучал их фотографии. Он узнал их не только по их пристальному вниманию к его персоне, но также по специфической осанке их хорошо тренированных тел и по неуловимому на первый взгляд сходству с Амосом и Йоси. Еще не дойдя до турникета, он дал понять взглядом, что узнал их, и они ответным взглядом подтвердили правильность его догадки. Поэтому, не тратя времени на формальное знакомство, один из них задал по-английски условленный вопрос о том, совершал ли его самолет вынужденную посадку в Монтре. Ури ответил, тоже по-английски, что да, совершал, но не в Монтре, а в Страсбурге, после чего они стиснули его с двух сторон плечами и быстрым шагом повели к выходу.
Всю дорогу от Гэтвика до Лондона он пытался выведать у них хоть что-нибудь о своем будущем задании. Но они либо сами не знали, либо умели держать язык за зубами, так что ему пришлось смириться и отступить. Зато у них была в запасе тьма разных вопросов, часть из которых попросту дублировала серию бесконечных вопросов, многократно заданных ему Амосом и Йоси и столь же многократно им отвеченных. Новостью был их настойчивый интерес к его гардеробу – есть ли у него приличный тренировочный костюм, достаточно ли у него чистых рубашек и взял ли он с собой пиджак и галстук?
Последний вопрос был вовсе бессодержательный. Неужто они не знали, что перед отлетом Амос повел его в привокзальный универмаг и они вместе выбрали темно-серый пиджак, сочетающий элегантную простоту со скромной деловитостью, а к нему полдюжины рубашек и два подходящих галстука – один молодежно-пестрый, другой – сдержанно-нарядный? Тем более, что Амос заплатил за всю эту роскошь казенными деньгами и взял в кассе расписку. После этой вполне приятной процедуры они прошли к «Опелю» Амоса, где их ожидал Йоси, который по пути в аэропорт распаковал все покупки и аккуратно срезал с них ярлычки с ценами. Потом он попросил Ури открыть чемодан и начал умелыми быстрыми пальцами перебирать его содержимое в поисках случайно затесавшихся предметов с израильскими ярлыками, но таких не оказалось – сам Йоси специально наказал Ури ничего израильского с собой не брать. Похоже, важность этой детали была так велика, что сразу по приезде в отель – весьма респектабельный, расположенный на знакомой по книгам улице Бэйзвотер Роуд, – Йорам и Гиди снова занялись тщательным изучением его трусиков, рубашек и носков.
Пока они выкладывали на стол аккуратные стопки просмотренных вещей, Ури с интересом разглядывал приготовленный для него номер. Уже при входе его поразило, что ему не дали заполнить регистрационную анкетку: Гиди просто назвал у конторки двузначную цифру, портье вручил ему ключ и они тесно сплоченной тройкой вошли в лифт, так что его присутствие в отеле не было нигде зафиксировано. Номер, в котором он не был зарегистрирован, тоже не был обычной гостиничной комнатой. Дверь из салона, где Гиди и Йорам изучали его подштанники, вела в просторную спальню с двойной кроватью под атласным покрывалом, соединенную с просторной ванной комнатой. Поскольку в передней комнате стоял большой диван, Ури предположил, что его провожатые останутся ночевать в отеле. Но они не остались. Пока Йорам бегал в соседний ресторан, чтобы принести для Ури ужин в бумажном пакете, Гиди объяснил Ури, что ему ни в коем случае не следует выходить из номера. А завтра утром ему в номер принесут завтрак, и к восьми часам он должен быть готов к встрече со своим инструктором, который придет к нему в отель.
– Так что, я даже не смогу посмотреть Лондон? – разочаровано спросил Ури, который никогда до того в Лондоне не бывал.
– Тебя прислали сюда работать, а не развлекаться, – поставил его на место Гиди. Он был такой же заносчивый, как Амос.
– Можешь смотреть телевизор, – посочувствовал ему менее заносчивый Йорам. – Или изучай свои лекции по реставрации, они тебе могут пригодиться, – добавил он, указывая на красную тетрадь Гюнтера фон Корфа, извлеченную им при досмотре из внутреннего карманчика чемодана Ури. Тетрадь эта в первую секунду после обнаружения вызвала изрядный переполох, потому что Гиди издали принял кудрявую вязь шифровки Карла за скоропись на иврите. Но убедившись, что это не иврит, он охотно поверил Ури, что это просто стенограмма его лекций по реставрации памятников средневековой немецкой архитектуры, и небрежно бросил тетрадь на стопку не убранных еще в чемодан рубашек.
Перед самым уходом Гиди вдруг что-то вспомнил, – круто развернувшись он прошел в спальню и отворил дверцу шкафа, куда Ури повесил свой новый пиджак. Гиди вытащил пиджак и критически осмотрел его.
– Слишком новый! – заключил он. – О чем эти балбесы во Франкфурте думали?
Он сердито бросил пиджак Ури, – так что тот едва-едва успел перехватить его на лету, – и скомандовал:
– А ну-ка надень!
Ури послушно надел пиджак, застегнул все пуговицы и предстал перед требовательным взглядом Гиди. Пока Гиди прикусив губу искал выход из положения, Йорам разглядывал отражение Ури в зеркале:
– Ума не приложу, как Ганс и Гретель умудрились произвести на свет такого образцового потомка царя Давида. Сознайся, ведь тебя аист принес?
Гиди громко засмеялся, то ли словам Йорама, то ли своей находке:
– Вот что, потомок царя Давида, придется тебе эту ночь спать в пиджаке, пусть слегка обомнется!
Когда они ушли, Ури немного постоял у окна, надеясь разглядеть какие-нибудь подробности лондонской жизни, но окно выходило на тихую боковую улочку, мало освещенную и безлюдную. Напротив тускло светилась зеленая вывеска химчистки, да время от времени редкие машины, сбивая Ури с толку, бесшумно появлялись не с той стороны, с какой их следовало ожидать. Что ж, ничего больше не оставалось, как удовольствоваться на этот вечер английским названием химчистки и неслышным скольжением машин по противной здравому смыслу стороне мостовой. Ури задернул штору и потянулся за красной тетрадью.
За два с половиной года, что тетрадь эта по секрету от Инге провела в картонной коробке для обуви у него в шкафу, ему так и не удалось расшифровать хитроумную тайнопись Карла. Нельзя сказать, что у него было много времени на расшифровку, – ведь ни тягомотное расследование гибели Дитера-фашиста, ни хлопоты по добыче денег на реставрацию, ни ежедневный штурм полуразрушенных лабиринтов замка не отменяли будничных трудов по хозяйству. Они с Инге целыми днями работали, как проклятые, и лишь изредка Ури мог выкроить часок на подбор ключика к зашифрованному миру Гюнтера фон Корфа. Со временем стремление проникнуть в этот мир превратилось у него в навязчивую идею, подогреваемую упорным сопротивлением не поддающегося раскрытию текста. Куда он надеялся заглянуть, выискивая все новые методы расшифровки – в интимную исповедь бывшего возлюбленного Инге или в темные закоулки души человека, сделавшего террор своим образом жизни? Он и сам не знал, какая из ипостасей погибшего соперника увлекает его больше, но одно было ясно: похороненный им в подземном тайнике череп Карла будет издевательски скалить зубы в его снах до тех пор, пока он не решит загадку красной тетради.
Ури взял тетрадь с собой в смутном предвкушении просторов свободного времени, которые могут открыться перед ним в поездке. Кроме того он не мог оставить тетрадь дома, опасаясь, что Инге в его отсутствие затеет с тоски генеральную уборку и обнаружит ее в шкафу.
Ури не мог бы толком объяснить, почему он скрыл эту тетрадь от Инге, когда отдавал ей билет и паспорт Карла. Он было собирался рассказать ей о тетради, но какой-то смутный толчок интуиции остановил его в последний момент. Потом он истолковал этот толчок, как опасение обнаружить при расшифровке какие-нибудь откровенные признания, которые Инге будет неприятно прочесть и еще неприятней думать, что их прочел Ури.
Он зажег высокую темно-розовую лампу над креслом и стал перелистывать тетрадь. Некоторые страницы он мог бы воспроизвести наизусть, не глядя, так много раз он над ними бился. В глазах зарябило, он захлопнул тетрадь и сунул в чемодан под рубашки. Сегодня работа по расшифровке была бы пустой тратой времени – в голове его роились совсем другие мысли. Да и устал он изрядно, прошедший день выдался не из легких. Он глянул на часы; хоть по-английски было еще рано, по его часам наступала полночь. Пора было ложиться спать.
Он откинул покрывало и начал было раздеваться, но вспомнив наказ Гиди спать в пиджаке, сбросил только туфли и, как был, во всей дорожной выкладке, плюхнулся в накрахмаленные объятия двуспальной гостиничной кровати. Однако, несмотря на усталость, сон ускользал от него при первом же приближении. В голову лезли разные неуютные мысли о предстоящей неординарной встрече с матерью, которую он не видел уже года полтора. Он тогда приезжал в Израиль на две недели, чтобы пройти медицинское обследование для выяснения перспектив своей дальнейшей военной службы, после чего его оставили в резерве, но списали из боевых частей. Все эти две недели он жил у матери, отчего давно отвык, и они бесконечно ссорились из-за всяких пустяков, хоть им обоим было ясно, что причина их ссор совсем другая, бездонная и неразрешимая, как арабо-израильский конфликт.
Он уехал, так и не примирившись с ней до конца, вернее не согласившись простить ее непримиримое неприятие его любви к Инге. Она так настойчиво пыталась убедить его, будто это вообще не любовь, что умудрилась убедить его в обратном. Если бы мать так не настаивала, он, может, еще бы поразмыслил о природе своих отношений с Инге. Ведь у него в душе со временем тоже начинали копошиться кое-какие сомнения, подстегиваемые неразрешимостью ситуации и очевидной мистической нерасторжимостью их союза. Какое у них было будущее? И было ли оно вообще?
Но он не мог поделиться этими сомнениями с Кларой, которая не желала простить ему, что теперь он нуждается в ней меньше, чем она в нем. Она никак не могла забыть, что до сих пор все было наоборот: он тосковал по ее вниманию, а она слегка тяготилась его любовью, которую принимала как нечто само собой разумеющееся. Раздраженный ее враждебностью к Инге, он предпочел не заметить, что мать уже начала сдавать, и в ее былую победительную улыбку просочилась какая-то жалкая извиняющаяся гримаска, наверно из-за мелких морщинок, собирающихся в уголках губ. Он не желал видеть ничего, что смягчило бы его сердце жалостью и любовью к ней. Не то, чтобы он хотел наказать ее за прошлое легкомыслие или за сегодняшнее упрямство, просто у него это получалось помимо воли.
И вот сейчас, наконец, он был наказан за свою черствость – маясь без сна среди сбитых гостиничных простыней, он вдруг увидел новое лицо матери, тронутое горечью увядания. Конечно, он мог бы и раньше заметить эти беспощадные следы прожитых лет, он, собственно, и заметил их, но слишком занятый собой, не пожелал обратить на них внимания. Мысль о том, что его мать, как и все другие, может состариться, заболеть и даже умереть, пронзила его своей безжалостной новизной. Ведь до сих пор она была данностью, полученной им при рождении, как ему казалось, на всю жизнь, – его неуязвимой надежной опорой. А тут, затерянный в чужом городе, в чужой неуютной постели, он вдруг ощутил зыбкость этой опоры, и осознал, что в его отношениях с матерью ему пришло, наконец, время становиться взрослым.
Напуганный этим пониманием, он вскочил с постели, зажег свет и поглядел на часы – было далеко за полночь. В номере было душно. И тут его осенило – все дело в этом проклятом пиджаке! Нарушая приказ Гиди, он сорвал с себя пиджак, рубаху и остальные липнущие к потному телу тряпки, нырнул в месиво перекрученных его бессонницей покрывал и заснул мгновенным глубоким сном.
Он спал так крепко, что проспал до самой последней минуты, когда в дверь его постучали с громким криком «Завтрак!» Затем, не дожидаясь ответа, в спальню ворвался некто в белой куртке, рывком отдернул штору и, плюхнув на тумбочку у кровати поднос с клейкой булочкой и стаканом чая в подстаканнике, умчался прочь так стремительно, что Ури даже не успел разглядеть, какого он был пола – мужского или женского.
Наспех отхлебнув обжигающий глотку чай, Ури глянул на часы – о боже, без семи восемь! Он вскочил с постели и бросился в ванную – надо было срочно привести себя в порядок и напялить пиджак до прихода Гиди.
Но напрасно Ури торопился – когда он, умытый и свежевыбритый, при пиджаке и галстуке, дожевывал последний кусок булочки с мармеладом, в дверь вежливо постучали. Ури крикнул «Войдите!», но никто не вошел. Тогда он подкрался к двери, резко рванул ее на себя и прижался спиной к стене, как его учили в армии. В коридоре было тихо. В этой полной тишине Ури услышал шелест чужого дыхания. Он легким движением отделился от стены и выглянул в коридор – в дверном проеме, улыбаясь хорошо знакомой Ури белозубой улыбкой обольстителя, стоял Меир. Чуть погрузневший, изрядно поседевший, но несомненно он.
Кого-кого, но Меира Ури никак не ожидал увидеть здесь, в лондонской гостинице. С Меиром была связана совсем другая часть его жизни, которую он давным-давно постарался вытеснить из своей памяти. Сейчас он разом вспомнил то бесконечно длинное жаркое лето, когда Меир был любовником матери. Он мог бы сардонически назвать его «одним из любовников матери», но в том-то и дело, что это было бы неправдой. С Меиром у нее было что-то серьезное, не такое, как с другими. С другими она попросту играла, как он в детстве играл с оловянными солдатиками, – когда они ему надоедали, он бросал их в коробку и забывал о них, увлеченный новой игрушкой. А с Меиром все было иначе, по крайней мере, поначалу. И потому он стал в их доме слишком частым гостем. Были даже две-три невыносимых недели, когда он у них жил – по утрам перед работой брился и принимал душ, завтракал на кухне, а по вечерам вместе с ними смотрел телевизор.
Это совместное сидение у телевизора было особенно ненавистно Ури, потому что раньше оно всецело принадлежало ему. Если мать не оставляла его вечером с бэби-ситером, она перед сном обязательно смотрела с ним какой-нибудь фильм и они долго потом обсуждали его, делясь друг с другом разными важными для Ури соображениями.
С появлением в их доме Меира у матери не оставалось времени для этих доверительных бесед, а кроме того по утрам за завтраком Меир тоже старался отвлечь все ее внимание на себя. В конце концов Ури взбунтовался и решительно отказался завтракать с матерью и Меиром на кухне. Он демонстративно уносил свой завтрак к себе в комнату, громким шепотом объясняя при этом матери, что его раздражает манера Меира после еды сосредоточенно ковырять в зубах зубочисткой.
Вряд ли именно бунт Ури побудил Клару расстаться с Меиром, скорей всего у нее для этого нашлись другие, более интимные причины, но однажды, вернувшись из школы, Ури не обнаружил в ванной ни зубной щетки Меира, ни его бритвенного прибора. Задохнувшись от радостного предчувствия, но все еще не веря, он робко переступил запретную черту, проходившую через порог материнской спальни, и распахнул дверцы стенного шкафа. Во всех отделениях лежали, висели, переливались и порхали бесконечно красивые и душистые вещи матери. Только матери – и все. Неизвестно, сколько времени Ури с ликованием в сердце простоял возле шкафа, вдыхая любимый запах, по которому он, даже с закрытыми глазами, мог найти мать в любом скоплении людей. Каждую секунду рискуя быть застигнутым ею в спальне и наказанным за нарушение запрета, он словно врос в пол перед открытым шкафом, чтобы вновь и вновь пережить свое торжество – ни курток, ни пиджаков Меира там не было!
Вслед за этим счастливым днем потянулись тревожные недели непроходимой осады – Меир не хотел примириться с тем, что между ними Кларой все кончено. Он посылал ей цветы, подстерегал ее в подъезде, когда она возвращалась с работы, он угрожал ей по телефону и часами сидел в машине возле их дома. Однажды в порыве отчаяния он даже попытался подкупить Ури, своего злейшего врага. В первый день учебного года он дождался его у школьных ворот и протянул ему огромную картонную коробку с недавно появившимся тогда и потому недоступно дорогим айбиэмовским компьютером.
– Это тебе к новому учебному году, – произнес он неестественно елейным голосом, от которого у Ури по спине побежали мурашки. Он отшатнулся от протянутой руки Меира и припустил к автобусной остановке на улице Жаботинского, куда как раз подъезжал автобус, идущий в противоположном от дома направлении. Ури вскочил в него и с трудом перевел дыхание – кровь стучала в висках так напряженно, будто он только что избежал смертельной опасности.
С тех пор Меир исчез из их жизни. Ури смутно догадывался, что из-за него матери пришлось сменить работу и заняться городским водоснабжением, хоть она была и осталась крупнейшим специалистом по водным запасам всего их региона.
– Человек должен платить за свои ошибки, – сказала она как-то в ответ на осторожный вопрос Ури, и он принял ее слова как просьбу о прощении, обращенную к нему.
Но сейчас, через много лет, окинув одним взглядом уже тронутую временем, но все еще молодцеватую фигуру замешкавшегося на пороге Меира, Ури почему-то испытал необъяснимое чувство вины неясно перед кем – то ли перед Меиром, то ли перед матерью.
– Можно войти? – улыбаясь спросил Меир. – Или так и будем стоять в дверях?
Ури нехотя посторонился, пропуская Меира в номер, но едва оправившись от первого смущения, не смог удержаться, чтобы невольно не сравнить эту встречу с той, давней, у школьных ворот, – оставалось только угадать, где у Меира припрятана коробка с компьютером.
– Вот мы и встретились, – констатировал Меир, опускаясь в кресло. Он вытащил из кармана пачку сигарет и зажигалку. – Курить можно? И щелкнул зажигалкой, не дожидаясь ответа.
– А если я скажу, что нельзя? – схамил Ури по старой памяти, припоминая, как он всегда возражал против того, чтобы Меир курил в салоне или на кухне, и заставлял его выходить с сигаретой на лестничную площадку.
Не отвечая, Меир закурил и прищурился на Ури длинным восточным глазом с золотистой хитринкой между косо сходящимися ко внешним углам ресницами. Он, конечно, тоже ничего не забыл. Держал ли он зло на Ури за его, такое далекое теперь, отчаянное противостояние? Темные глаза Меира были непроницаемы, и Ури вдруг ни с того, ни с сего вспомнил, что родом он из Туниса, что родной его язык – французский, и что первую степень он получил в Париже.
– Не ожидал меня здесь увидеть? – вглядываясь в его лицо посочувствовал Меир. – Ладно, садись, – вздохнул он, поскольку Ури в ответ промолчал. – Пора заняться делом. А дело у нас непростое.
Тут Ури вдруг осенило, что мать не подозревает не только о предстоящей встрече с ним, но и о предстоящей встрече с Меиром тоже.
– А она знает, что будет проходить у тебя инструктаж? – спросил он, не уточняя, кого он имеет в виду. Но Меир понял.
– Нет, пока не знает.
– И нельзя ее как-то предупредить?
– А ты выслушай, о чем речь. Тогда ты сам сможешь судить, что можно и что нельзя.
Гибким, все еще молодым движением Меир поднялся с кресла и принялся шагать из угла в угол, сосредоточенно затягиваясь наполовину выкуренной сигаретой.
– Начнем с главного, – сказал он наконец, и Ури заметил, как напряглись все его мускулы, будто он готовился к решительному прыжку. – Правитель одной из арабских стран, я не могу сказать тебе, какой именно, но назовем его условно Хасан, – уже больше года подает нам сигналы, что он хотел бы вступить с нами в переговоры. Его побуждает к этому, конечно, не страстная любовь к миру, а суровая действительность его рушащейся экономики. Ситуация в его стране сложная – если о его намерениях станет известно до того, как он достигнет хоть каких-то результатов, ему конец. Его или убьют или свергнут, что все едино, потому что, когда его свергнут, его тоже постараются убить. Он, естественно, этого не хочет и мы тоже. Все это время мы пытались организовать встречу с его посланцем – он никому не доверяет и потому личность посланца пока нам не раскрывает, темнит. Но ясно, что это какой-то очень близкий его родственник, то ли брат, то ли сын, у него их без числа. Однако ни одно из предложенных нами до сих пор мест его не устраивало, в каждом он находил прорехи, через которые могла бы просочиться опасная для его жизни информация. И вдруг несколько месяцев назад он сам предложил довольно оригинальное место здесь, в Англии. Место весьма нетривиальное, что предполагает характер встречи принципиально непохожий на все другие тайные совещания, которых мне приходилось организовывать немало. Сам ли Хасан на эту идею набрел или кто-то его надоумил, но она несомненно удовлетворяет его склонность к театрализации будничных событий, и нас устраивает тоже. Сама непредсказуемость и даже, я бы сказал, невероятность замысла обеспечивает большую степень надежности.
Меир остановился, ища глазами пепельницу, нашел ее на журнальном столике возле Ури и долго разминал в ней погасшую сигарету, заполняя воздух острым смрадом недокуренного табака. Ури молча ждал, когда он закончит. Эта затянувшаяся пауза показалась ему нарочитой, будто Меир еще раз взвешивал в уме все «за» и против» прежде, чем поделиться с Ури своим драгоценным государственным секретом. Покончив с сигаретой, Меир сел в кресло и уставился на Ури невидящими глазами, словно там, куда он смотрел, прокручивали захватывающий фильм.
– Представь себе деревушку, затерянную где-то в холмах Уэллса, – голос его звучал глухо, словно он готовился рассказывать ребенку сказку перед сном.
«Что для него этот проект, – мимолетно подумалось Ури, – еще одна ступенька в блестящей карьере или увлекательная задача, решить которую непросто и почетно? Впрочем, почет сомнительный, ведь все это останется тайной, хранящейся за семью замками в сейфах секретной службы».
Меир начал рыться в карманах в поисках новой сигареты, но передумали продолжал:
– Полтора века назад один валлийский вельможа по имени Артур, рассорившись со своими сыновьями, решил в наказание лишить их наследства. Он оставил все свое состояние местной церкви с целью создания научной библиотеки при условии, что доступ к книгам будет обеспечен всем исследователям, без различия религии и национальности. Неудачливые наследники, конечно, пытались опротестовать завещание, но церковь была сильней их и выиграла дело во всех судебных инстанциях. Денег оказалось много, так что к концу девятнадцатого века специально созданному для этого совету удалось построить роскошное здание и закупить некоторое количество книг по разным вопросам теологии, истории, философии и культуры средних веков. Слава библиотеки начала быстро расти и перед первой мировой войной в английском высшем обществе стало модно жертвовать ей деньги и старинные книги, веками пылившиеся на книжных полках родовых замков.
В результате библиотека становилась все обширней и богаче. Ей не хватало только читателей – ведь книг на вынос там не выдавали, а построили ее черт-те в каком захолустье, в маленькой деревушке, куда даже железную дорогу не стоило проводить. И кто-то из членов совета придумал превратить библиотеку в пансион, чтобы жаждущие дорваться до ее ценностей могли спокойно жить там на всем готовом. Неделю, две, месяц, год, сколько кому понадобится. За деньги, конечно, но за деньги разумные, которые ученым были бы по карману. Для этого барский дом Артура, без пользы ветшающий рядом с библиотекой, недорого перестроили в некое подобие монастырского жилья. Знаешь, такой лабиринт из узких коридоров, по обеим сторонам которых расположены скромные кельи, пригодные для ночного сна и дневных раздумий. А для работы каждому предоставляется комфортабельный стол в одном из лучших в мире читальных залов. Вокруг – тишина, покой, – с одной стороны старинная церковь с часовней, с другой заросшее кустами кладбище, вдали поля, рощи, перелески, за несколько миль океан. Ни прохожих, ни проезжих, ни туристов, ни журналистов.
Меир перевел дух и победоносно глянул на Ури.
– Сечешь?
– Пока не очень, – честно признался Ури.
– Это потому, что ты там не был. А я был. Прожил неделю, притворяясь архивариусом монастырской библиотеки из Бургундии. Ты представить себе не можешь, какая там жизнь. Трапезы там общие – не в столовой, а в трапезной. Трапезная темноватая, строгая, стены до потолка обшиты дубовыми панелями, длинные ореховые столы составлены, как ход коня в шахматах, скатерти на столах белые, накрахмаленные. Салфетки тоже – никаких бумажных утирок ты там не найдешь. За пять минут до завтрака звенит звонок, и гости, едва умывшись, спешат вниз по соединяющим этажи винтовым лестницам и выстраиваются перед высокой дверью в трапезную, куда их впускают ровно в восемь. Завтрак скромный – на отдельном маленьком столике приготовлена овсяная каша, горячее молоко, яблочный мармелад и тосты с маргарином. На соседнем столике кувшины с кофе и чаем – и все, никакой роскоши. В одиннадцать утра, в пять вечера и за два часа до полуночи во всех коридорах звенит серебряный колокольчик, сзывающий гостей к чаепитию и светскому общению. В большой гостиной, выходящей окнами в сад, на специальных старинных плитках, подогреваемых свечами, сервированы чай и кофе, которые дежурный библиотекарь разливает в невесомые чашечки из тонкого фарфора с фирменным знаком на дне. И хоть скромность разложенных на серебряном блюде сухих бисквитов резко контрастирует с богатством посуды, практически все обитатели библиотеки прерывают свои труды и приходят к чаю. Ведь эти короткие встречи за чашечкой чая дают безбрежный простор для интеллектуальных бесед, ни к чему не обязывающих, никому не подотчетных и потому не сковывающих полет фантазии никакими условностями. Подбор участников случаен, но предварительный отбор их очень строг – я не скажу, что легче верблюду пройти через игольное ушко, однако не каждому любителю древних книг это удается.
– А мне, похоже, удалось? – непочтительно перебил Меира Ури, не по рангу, а по праву старого недруга. Но Меир, похоже, на эту мальчишескую дерзость не рассердился, наоборот, вроде бы ей обрадовался:
– Кое-что ты уже просек, я вижу? – полувопросительно констатировал он.
– Кое-что, но далеко не все. Что меня допустят в круг избранных, мне ясно. Иначе, к чему было тратить деньги на новый пиджак и галстуки? Но вот зачем?
– Неужто еще не понял? Встреча нашего представителя с представителем венценосного Хасана состоится не в тайной подземной пещере и не на необитаемом острове, а на людях. Чтобы они могли затеряться в толпе, так сказать. Мы, конечно, предлагали и пещеру, и необитаемый остров, но он отказался. Боится, что его человека выследят и всю его затею разоблачат.
– А на совместное интеллектуальное чаепитие он согласен?
– Не просто согласен, а сам предложил. Именно на чаепитие, плюс две ночи переночевать, плюс завтрак, обед, партия в гольф и еще одно чаепитие, прощальное. Дело в том, что Хасан питает слабость к этой библиотеке – он, когда учился в Кембридже, несколько раз ее посещал. Он был тогда принцем и воображал, что сумеет стать либеральным правителем европейского толка. Он тогда даже хобби себе завел – пытался писать исследование о влиянии суфиев на европейскую культуру. О либерализме ему пришлось забыть, и книгу о суфиях он таки не дописал – ему уже давно не до книг. Но память о том невозвратном времени все еще греет его сердце.
– А наши, значит, приезжают как ученые гости библиотеки?
– Официально наших там практически не будет. Мы уже полгода работаем над тем, чтоб замаскировать их под разными личинами. Кое-кто там уже пару месяцев сохнет над книгами о средневековых схоластах, кое-кто на неделю приезжает из Америки. Ну и разные другие есть – слава Богу, интеллигентных евреев пока еще можно найти в любой стране. Вот ты, например, – немецкий гражданин, специалист по реставрации руин.
– Но я-то вряд ли гожусь для переговоров.
– Да кто тебя приглашает к переговорам? Ты будешь следить, чтобы какой-нибудь хитрец не прокрался туда и не разоблачил замыслы Хасана с целью провалить все дело в зародыше. Мы хотели было всю библиотеку только своими заполнить, но не выходит. Одни ученые мужи – впрочем, среди них попадаются и дамы, – проводят в библиотеке свой субботний год: они живут там уже несколько месяцев и выселить их нет никакой возможности. Другие зарезервировали комнаты несколько месяцев назад, им тоже нельзя отказать, тем более, что мы не смеем об этом даже заикнуться – меньше всего мы заинтересованы в том, чтобы здешняя дирекция заподозрила, будто есть какие-то «мы». Так что у нас оставался только один выход – заселить библиотеку своими людьми, насколько возможно. И это тоже оказалось задачей непростой, ведь люди нужны надежные, подходящие по научным интересам и внешне не имеющие никакого отношения к Израилю. Таких замечательных ребят, как гражданин ФРГ Ульрих Рунге, нам удалось наскрести с полдюжины, не больше, а остальных пришлось сфабриковать из подручного материала, что, конечно, чревато разоблачением, если кому-то вздумается хорошенько проверить. Вся надежда на то, что никому в голову не придет проверять, – если никто ни о чем не проболтался.
– А на это можно надеяться?
– Как тебе сказать? Ты же знаешь, как у нас обстоит дело с утечкой информации! К счастью, почти никто ничего не знает. Большинство приглашенных не имеют ни малейшего представления о реальной причине маскарада. Каждому выдана наиболее приемлемая для него версия. Для тебя я сделал исключение, потому что лично тебя знаю…
«Ого! – пронеслось в голове Ури, пока Меир переводил дух перед следующей фразой. – Вот он, компьютер!» А дух Меиру перевести было необходимо, потому что следующая фраза была козырная:
– …и потому что ключевой фигурой на этих переговорах будет твоя мать.
Меир произнес эти слова таким напряженным голосом, словно бросился с пятиметровой вышки в ледяную воду, и замолк, дожидаясь, пока в легкие опять наберется воздух. Наверно в лице Ури что-то изменилось, потому что, когда воздуха в легких Меира набралось достаточно, он спросил с упреком:
– Что ты вскинулся? Ты ведь знаешь, что она там будет.
– Что будет – знаю. А насчет ключевой роли ее фигуры слышу в первый раз.
И сам засмеялся своей непредвиденно дерзкой игре слов. Но Меир на его фрейдистскую проговорку не клюнул, он даже глазом не моргнул, словно и не слышал.
– Главный повод для этой встречи – вода. Хасан крайне обеспокоен бедственным состоянием водных запасов в его стране. Поэтому он так жаждет, невзирая на опасность, перебросить через свои высыхающие реки этот хрупкий мостик к нам.
Он опять замолчал и начал рыться в кармане в поисках сигарет. Молчание затянулось – похоже было, что Меир ждет от Ури какого-нибудь наводящего вопроса. Но Ури, не в силах совладать с нахлынувшей откуда-то из детства острой потребностью уязвить Меира, тоже упрямо молчал. В конце концов Меир бросил на стол незакуренную сигарету и заставил себя признаться:
– Тебе я не должен рассказывать, что вряд ли кто-нибудь разбирается в наших водных системах лучше, чем твоя мать.
За этими словами стояла такая мучительная для них обоих полоса жизни, что не отозваться на них было невозможно.
– Поэтому надо было выставить ее в городское управление и поручить ей заниматься проблемами канализации?
Глаза Меира на миг потемнели от гнева, но всего лишь на миг. Он тут же овладел собой и сказал преувеличенно ровным голосом:
– Не надо, Ури. Ты прекрасно знаешь свою мать, чтобы понять, что никто ее не выставлял. Она всегда делала все, что хотела.
О да, свою мать Ури знал хорошо! Если, конечно, иметь в виду ту лихую охотницу, которую помнил Меир, а не эту новую, погасшую, застенчиво прикрывающую ладонью мелкие морщинки в уголках рта. Но сейчас это не имело отношения к делу.
– Столько лет прошло – неужто для этого случая у вас не нашлось никого другого?
– Специалистов полно, но нет никого с таким острым взглядом и с таким трезвым подходом. А кроме того другие не удовлетворяют остальным, не менее важным, требованиям. Все они – сабры, и никого из достаточно доверенных нельзя выдать за дотошного исследователя из какой-нибудь нейтральной страны. Тебе ведь знаком этот неисправимый ивритский акцент – у тебя, слава Богу, его нет!
– Но ее тоже трудно выдать за немку, – усомнился Ури. – У нее немецкий слишком книжный, сегодня так никто не говорит.
– При чем тут ее немецкий? Она принципиально отказывается выдавать себя за немку. Но в том-то и фокус, что ее не надо ни за кого выдавать. Она ведь всего-навсего ведает канализацией в городском управлении Тель-Авива. И приезжает в Англию изучать архивные документы для книги о древних системах орошения, которую она сейчас пишет.
– Клара пишет книгу? – искренне удивился Ури. Работа над книгой не вписывалась в знакомый ему образ матери. Впрочем, что он о ней теперь знал?
– Ты что, совсем потерял с ней связь? – вырвалось у Меира невольно, и он тут же прикусил нижнюю губу. Но Ури расслышал скрытый в его словах упрек, и перед ним внезапно приоткрылась невнятное ему до того хитросплетение чужих переживаний – неужто Меир до сих пор сожалеет, что ветреная Клара ускользнула от него, как и от всех других? Неужто он все еще хранит в душе память о тех невыносимых для Ури и, наверно, сладостных для него, коротких неделях его совместной жизни с Кларой, разрушенной в значительной степени ревнивым сопротивлением капризного мальчишки? Но Меир не позволил Ури задержаться на этих бесплодных раздумьях, он властной рукой вернул его к сегодняшним проблемам. Голос его был официально жесток.
– Ну, тогда тебе не повредит узнать, что твоя мать и вправду пишет книгу – раз. И что ее время от времени неофициально приглашают в самые высокие инстанции для консультации по вопросам хранения и распределения водных ресурсов страны – два. И что ее незначительная должность позволяет ей без всяких подозрений получить доступ к уникальным старинным книгам по орошению в книгохранилище библиотеки Артура – три. Надеюсь, такой подробный ответ тебя удовлетворяет?
– С начальством не спорят, – развел руками Ури, сознавая, что он уже давно перешел все границы в эксплуатации своей былой власти над Меиром.
– И правильно делают, – подтвердил его опасения Меир и закурил, наконец, свою сигарету, не интересуясь больше реакцией Ури на табачный дым.
– Итак, сегодня пятичасовым поездом ты отправляешься в Честер с вокзала Кингс Кросс. Вот тебе билет, вот расписание пересадок – их будет две. В Честере на вокзальной площади сядешь на автобус номер19 на Махантлес – не удивляйся, название непроизносимое, потому что все там по-валлийски, – и выйдешь на остановке «Библиотека». Ты ее сразу узнаешь, она бросается в глаза, ее ни с чем нельзя спутать. Вот копии твоих бумаг – твоя просьба о предоставлении комнаты на две недели, рекомендательные письма от двух постоянных посетителей библиотеки, одно от профессора Сержа Лемурье из Лиона, другое от профессора Бранденбурга из Йельского Университета. Вот приглашение от директора библиотеки, вот деньги на оплату счета. Вот карманные деньги – триста фунтов. Вот подробный план библиотеки и спален. А теперь молчи, слушай и запоминай, что ты будешь там делать.