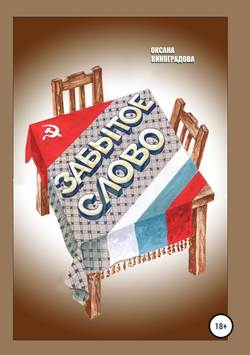Читать книгу Забытое слово - Оксана Николаевна Виноградова - Страница 5
Часть первая
Кружение
Катастрофа
ОглавлениеВся страна радовалась. Предыдущие политики немного сбились с пути, указанного Лениным, но теперь-то, как провозгласили с экранов, состоится «возрождение истинного социализма»!
«Возрождение» получило название «перестройка». Для народа она началась в мае. Был издан указ «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения».
Такова была первая реформа.
Осуждалось питие в обществе по любому поводу. На поминки и свадьбы выдавали не более двух ящиков водки по справке.
Если ты задумал выпить тихо один и для здоровья, ты мог купить водку. Она, равно как и другие продукты, стала выдаваться по норме: не более двух бутылок в руки. Цена с трешки подпрыгнула до десяти рублей (это при заработной плате инженера сто двадцать рублей). Когда водку завозили в магазин, образовывалась километровая очередь.
В городе появился антиалкогольный патруль: крепкие мужики хватали по вечерам возвращавшихся из гостей прохожих и предавали в руки правосудия.
Если тебе не нравился сосед, ты мог запросто отравить ему жизнь: звонишь в милицию и говоришь, что твой сосед – самогонщик. Постоянно самогон варили немногие, но у многих имелся в доме самогонный аппарат и книги о виноделии. Все это тянуло за собой штрафы, конфискацию и даже срок – в зависимости от размеров и обстоятельств.
Каждый день по радио и телевизору шли бравые репортажи о вырубленных виноградниках и демонтированных винных заводах.
Все, кто пил, продолжали пить. Но только не водку, а что придется: денатураты, одеколоны, всякую другую гадость. Возможно, в этом был и плюс: в первые годы перестройки многие пьяницы «отбросили коньки» или наложили на себя руки, очистив общество.
Фольклор не оставил действия Горбачева без внимания: по стране ходили анекдоты, самым известным из которых был следующий: мужик, не достоявшийся в очереди за водкой, поехал в Кремль, чтобы плюнуть в лицо Горбачеву. Вскоре возвращается и объясняет: «Там очередь еще больше».
Однако люди простили молодому, красивому, занятно говорящему генсеку эту реформу. Все по-прежнему ожидали перемен к лучшему. А некоторые, например измученные жены спившихся алкоголиков, были ему благодарны за преждевременный уход благоверных в мир иной.
Мою семью алкоголь сильно не волновал. Но когда городская кондитерская фабрика выпустила партию пирожных эклер, которыми отравились около ста пятидесяти человек, мы почувствовали: что-то пошло не так, как всегда. Потом пропали стаканчики в автоматах с газированным лимонадом; потом – сами автоматы.
Папа стал чаще критиковать действия правительства, а мама задумывалась, не зная, что ему ответить. Конечно, жить становилось труднее, но когда было легко?
Да и на разговоры у нее не было времени. Со мной она общалась примерно так: «Ты не пропылесосила пол; не вымыла посуду; не убрала учебники…» Да, у меня были недостатки, но было во мне и хорошее. Например, после уроков я с подругой перелезала через забор военной базы, расположенной неподалеку, и покупала там на специально для этой цели оставленные мамой деньги дефицитные печенье, масло, сметану. Шила: перешивала Дашеньке кофточки и юбочки. Любила гулять с сестрой вокруг дома. Укладывала ее спать, что было не так-то легко…
Но даже тогда, когда я делала что-то полезное, всегда встречала выговоры: когда мыла пол в квартире, то «заливала всю ванную», когда жарила картошку, то почему-то «синюю» и т. д.
Моей учебой мама не интересовалась, а мне до того надоело ходить за ней с дневником и канючить «распишись», что в четвертом классе я стала расписываться за родителей. В школе я училась на отлично, была любимицей учителей и редактором стенгазеты, где пропагандировала здоровый моральный образ жизни, рисуя карикатуры на девочек, носивших сережки, и мальчиков-двоечников. Я была достойной, как мне казалось, пионеркой и, как мама, верила в светлое коммунистическое будущее, несмотря ни на что.
Папа в мою учебу тоже не вмешивался. Агитационные плакаты и лозунги пользовались бешеным спросом, и он работал по вечерам. Его очень часто не было дома, а когда был, то они с мамой непременно ругались по всякому поводу. В первый раз они чуть не развелись, когда Дашеньке исполнилось полтора годика…
Семейная катастрофа разразилась в один из выходных дней, когда я затаскивала в подъезд коляску с Дашенькой с прогулки. Подходя к двери, я услышала мамин плач:
– Ненормальный! Ничтожество! Опять купил не то, что я просила! Я просила укроп для еды! А ты что принес за двадцать копеек? Для соленья! Ты все делаешь мне назло!
Папиного голоса не было слышно. Я позвонила. Дверь долго не открывали, а когда она открылась, на пороге стоял папа с авоськой. Он грустно посмотрел на меня, потрепал по волосам, пропустил коляску с Дашей в коридор. Поколебавшись, постоял некоторое время, потом решительно шагнул за порог.
– Папа! – заорала я, вцепившись в авоську.
– Отпусти, Надя.
– Ты вернешься?
– Да. Я на работу схожу и вернусь, – он обманывал меня, как наивного ребенка.
– Папа, не уходи…
Мягко выдернув из моих рук авоську, он вышел и аккуратно закрыл дверь.
На кухне тихо выла мама.
Я прошла в свою комнату и тоже заревела. Спустя минуту заревела Даша. Мама вскочила и влетела ко мне, перекрикивая общий рев:
– Ты-то что плачешь? Тебе какое дело? Ты о себе думай!
Эти слова что-то во мне оборвали.
Покормив Дашу, мать усадила ее в коляску и снова зачем-то пошла гулять.
– Проживем и без него. Не мы первые, не мы последние, – заявила она.
Я долго плакала. Потом решила, что нельзя допустить папиного ухода и для этого надо написать ему письмо.
«Милый папочка! Я тебя очень люблю. Без тебя будет очень плохо, и мне хочется, чтобы ты с мамой помирился…»
А вдруг я и для него, как для нее, ничего не значу?.. Надо привести более весомые доводы… Напишу про сестренку, про то, как она нуждается в папиной любви.
Кое-как запечатав эпистолярное произведение в конверт, я вышла на улицу. Невдалеке стояла мама с коляской и рассказывала подруге, какой у нее муж подлец. Меня она не заметила, и я, пройдя вдоль дома, отправилась к папе на работу. Я часто ходила к нему в мастерскую.
Дойдя до проходных стройтреста, остановилась. Стеклянные двери под папиным лозунгом «За бережливость и экономию!» были закрыты: выходной!
Я отошла от проходных, свернула на тропинку, ведущую к строительной площадке. Там села на бетонную плиту, из которой торчали куски арматуры. Поплакала. Вынула из кармана письмо, несколько раз прочитала и, скомкав, выкинула в лужу под бетонными сваями.
Вечером того дня папа не пришел домой. И в следующий вечер тоже. Зато пришел в гости мамин брат – дядя Слава с женой. Они закрыли дверь в большую комнату и долго совещались, думая, что я ничего не слышу.
– На профсоюзном собрании с ним быстро разберутся! – горячился дядя.
– Да что ему твое собрание! Он ведь не как ты, партийный… – грустно возражал мамин голос.
– Наказать любого могут. У нас тоже один такой допрыгался: живо попросили. Был инженером, теперь у станка стоит.
– Да не надо ничего!
– Слава, – пыталась вставить слово его жена, – по-хорошему надо. По-человечески помириться.
И они, поговорив, ушли.
Мама, пожелав мне спокойной ночи, закрылась с Дашенькой в комнате.
Мне не спалось. Я пошла на кухню и открыла шкафчик с лекарствами. Когда мама волновалась, она пила две желтенькие таблетки валерианы. А что будет, если выпить больше, гораздо больше?.. Я высыпала на ладонь горсть желтых приплюснутых горошин, проглотила и запила водой.
Утром раздался звонок в дверь. Пришли дядя Слава с женой и привели папу, небритого и потускневшего. Мама засуетилась, выставила на стол дефицитную бутылку с закуской, придумали праздник, и жизнь наладилась…
Когда я была маленькой, мне часто снился один и тот же сон. Страшная темнота, из которой появляется сначала крошечный, а потом все больше и больше, ком из грязно-зеленой слизи. Он становится еще больше, почти с меня ростом, и растет, растет, и катится, чтобы задавить меня… Я пытаюсь убежать, но ноги не слушаются, горло сжимается от страха… Из последних сил кричу: «Мама! Мама! Мамочка!» А в ответ неизвестно откуда ее тихий, очень спокойный голос: «Все в порядке, не волнуйся, все хорошо…» Но ком все больше, и я опять кричу, и в ответ все тот же спокойный, ровный голос. Конца этого сна я не знаю, так как всегда просыпалась от ужаса… Терпеть не могу сны, но они мне снятся каждую ночь: с музыкой, цветными картинками, приятные и кошмары всякие. Пока Дашенька не ходила ножками, мне часто снилось, что я держу ее за ручку и она бежит. Казалось, что этот момент не наступит никогда. Но он наступил очень быстро. Дашенька стала ходить ножками, говорить, петь песенки и ябедничать, если я не исполняла ее желания. Впрочем, ябедничать ей было не обязательно, достаточно было только заплакать, чтобы мама неслась с развевающимися в гневе волосами и обрушивала на меня потоки ругани.
Один раз ко мне со двора зашла подружка, чтобы посмотреть мой новый песенник. Даша потребовала, чтобы с ней поиграли в куколки. Мы отказались. «Сейчас зареву, – сказала Даша. – Считаю до трех. Один, два, два с половиной…» Мы так смеялись! И конечно же, играли с ней, так как играть больше было некому: все были заняты серьезными взрослыми делами.
Мне было интересно с Дашей, хотя наша разница в возрасте составляла девять лет. Я строила ей дворцы; показывала домашний кукольный театр; учила рисовать и устраивала выставки ее рисунков; купала в ванной, пугая рыбой с виляющим хвостом и удивляясь, как она может всерьез ее бояться… Я очень любила сестренку, но мама, хотя и доверяла мне ее, постоянно боялась, что я с ней сделаю что-нибудь плохое; вероятно, поэтому она столь истерично реагировала на каждый Дашин крик и ругала меня, не желая вникать в суть дела. А однажды мама решила со мной доверительно поговорить и сказала примерно следующее: «Знаешь, Наденька, некоторые дети очень ревнуют к своим братикам или сестренкам. Я знаю случай, когда старшая сестренка выкинула своего братика с балкона, и он разбился насмерть. Ты ведь никогда ничего подобного не сделаешь, правда?» Я пошевелила в знак отрицания головой, и мама оставила меня, не заметив, что ее дочь в шоке. Но не столько от этой жуткой истории, сколько от осознания, что мама ДО ТАКОЙ СТЕПЕНИ мне не доверяет и, следовательно, не знает меня! Она считает меня врагом, чудовищем, которое способно на такие поступки! Почему?..
Вскоре произошел случай, который, вероятно, еще больше укрепил ее мнение относительно меня: когда я катала Дашеньку с горки на санках, она столкнулась с каким-то мальчиком; они перевернулись, и Дашеньку задело полозьями. Она истошно закричала, а ее меховая шапка стала красной. Я схватила сестру и прибежала с ней домой. Мама, увидев Дашу, прошептала:
– Что ТЫ с ней сделала?
Со мной случилась истерика. Я побежала за такси и чуть не бросилась под машину, чтобы влезть без очереди (да, тогда были очереди на такси!). Потом мы поехали в травмпункт… Пока Даше зашивали рану, мать без перерыва укоряла меня. Но что ее укоры! Она постепенно становилась чужим человеком, понятия не имеющим о том, что чувство вины за этот случай будет преследовать меня еще много лет: ведь это я подтолкнула санки!
Как мать все больше не верила мне, так и я все больше уверялась в ее нелюбви. Все чаще я принимала в ссорах сторону отца, а она брала в союзники Дашеньку. При этом мама бдительно следила за любыми моими промахами, радостно сообщая папе: «А твоя дочь…»
Борьба была неравной. Папа перестал утруждаться вхождением в детали и стал на вещи смотреть «философически», приняв на веру все теории матери, что бы она ему ни говорила. А говорить про меня она стала многое: я и лентяйка, и упрямая, и притворщица, и дура, в конце концов.
Постепенно меня перестал радовать домашний очаг, и я все чаще после школы стала задерживаться у подруг или гулять на улице.
Папа, случайно проявив бдительность и мудрость, отвел меня на вступительный экзамен в художественную школу, куда я с успехом была зачислена. «Ремесло художника очень востребовано временем», – аргументировал отец свой поступок. И выписал мне журнал «Юный художник».