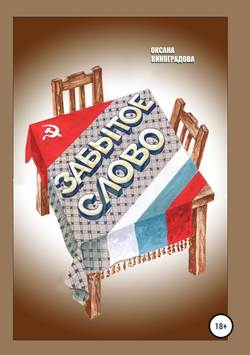Читать книгу Забытое слово - Оксана Николаевна Виноградова - Страница 8
Часть первая
Кружение
Тяготы
ОглавлениеЖизнь стремительно менялась.
Скоро не только холодильники, но и продукты в магазинах стали пропадать совсем. На военной базе прилавки опустели, а вход в нее перестал охраняться: видимо, магазины и были объектом охраны.
Потом продукты и товары обзавелись двойной ценой: прежней, к которой привыкли покупатели, и «кооперативной», которая превышала прежнюю в пять – десять раз. На прилавках кое-что появилось, но не все могли это кое-что купить.
Некоторые кооперативные промтовары были гораздо красивее тех, что делало государство «по плану». Так, мама купила дорогущие туфли в обувном кооперативе, и на них ушла практически вся ее зарплата. Она обувала их по великим праздникам, передвигая ногами очень-очень плавно, приходя в расстройство от каждой нечаянной царапины на каблуке. При этом шептала: «Надо же, и нигде не трет!» Папа, видя, что зарплаты хватает лишь на пару туфель, загрустил. Его ремесло переставало пользоваться спросом: никому не нужны были ни призывы, ни лозунги. Сошли на нет обязательные демонстрации и всенародные гуляния. Папа попробовал писать художественные картины, но людям было не до прекрасного. Денег домой он приносил все меньше, а мама о них думала все больше. Скандалы в доме стали ежедневными и изматывающими, а папа все чаще приходил «с запашком», вновь вызывая огонь на себя. Родители ругались так сильно, что я была почти счастлива, когда они вместе ругали меня, хоть я при этом легко входила в истерическое состояние, плакала и отвечала руганью. Матери я боялась настолько, что вздрагивала при звуке ее голоса. Я перестала знать наверняка, что она думает. Ее воззрения менялись ежедневно. Так, она с восхищением стала говорить о спекулянтах, особенно после того, как один из них (из нашего подъезда) купил машину. А ведь не так давно она ездила в Москву за зимними сапогами и простояла на морозе в очереди полдня. За несколько человек до нее закончился нужный размер, и мама вышла из очереди. Когда папа встретил ее, рыдающую, на вокзале, то улыбнулся: «Оля, ну взяла бы ты хоть какие сапоги, а на барахолке обменяли бы».
– Что я, проклятый спекулянт что ли? – отвечала мама.
А теперь она думала о них хорошо.
Кроме того, она вдруг стала верить в сверхъестественные силы, что ранее казалось невозможным. Иногда в доме заводились такие разговоры матери с отцом:
– Вот, Николай, денег у нас все меньше, ты пьешь… надо бы сходить к одной бабке. Она с тебя порчу снимет.
Отец отвечал:
– Оля, отстань… Это в тебе черт сидит. Ты в Бога не веришь, а в порчу уверовала. Посмотри на себя: с тобой повеситься можно.
Мама после таких слов переходила на крик, и все узнавали о том, что это с папой можно повеситься, что он художник от слова «худо» и верит в летающие тарелки, которые, как мама надеется, когда-нибудь заберут его к чертовой матери. Я в такие минуты сидела, заткнув уши указательными пальцами, а Даша плакала. Иногда семейные разборки настолько выбивали меня из колеи, что даже привычные средства успокоения: кино, книги – не помогали. Да и книги, и кино в кинотеатрах стали такими, что наполняли кровь адреналином. Проституция, наркотики, мафия… Оказалось, у нас это все есть чуть ли не в соседней квартире. То ли дело раньше: сказки, индийские фильмы… да хоть «Рабыня Изаура», которую толком посмотреть не дали. К счастью, ее позже повторили. Наверное, по просьбе трудящихся. Кстати, телевизионные программы становились гораздо разнообразнее, чем в годы моего лучезарного детства. Так, по вечерам папа обязательно смотрел программу «Прожектор перестройки», где вещали об экономическом расцвете после реформ и показывали счастливые лица тех, чья скотина давала огромные удои. После «Прожектора» выходили в эфир «600 секунд», где ведущий, брызгая от негодования слюной, описывал найденные расчлененные трупы, значащиеся в милицейских сводках, и толсто намекал на мафию, захватившую власть. Около полуночи пускали программу, где транслировали забастовки трудящихся и доставалось всем политикам (гласность!). Увы, программа пожила недолго: ее инициатору неизвестные всадили пулю между глаз.
Правительство провозгласило переход к рыночной экономике, очертив курс на демократизацию общества. Что стояло за этими словами, мало кто понимал. Демократию расшифровывали как полную свободу – делай «что хошь», а рынок – как «поезд в капитализм со звериным оскалом». А про гласность кричали и депутаты, и пьяный мужик, матюгающийся при детях. Мели, Емеля, твоя неделя! В основной своей массе люди понимали гласность примерно так же, как и Небодаева: «говорю что думаю», – забывая, что иногда полезно сначала подумать, а потом говорить.
Везде ругали правительство и Горбачева, все стали нервными; ежедневно происходило что-то из ряда вон выходящее.
В нашем подъезде скончалась бабулька: оказалось, ее, ветерана Великой Отечественной войны, обделили гуманитарной помощью, пришедшей из Германии. Вопиющая несправедливость поразила ее в самое сердце.
А у соседей через два дома от нашего прорвало канализацию, и целую неделю все нюхали амбре. Жители злополучного дома ходили с плачущими лицами по всем инстанциям, укоряя нас, соседей, за бездействие.
Как-то раз, проходя мимо недавно построенного «Полета», я лицезрела драку. В тот день в кинотеатре проходила «встреча общественности с религиозными деятелями города и области». Заодно показывали фильм «Воскресный день в аду». Не знаю, как связаны драка, встреча и фильм, но фильм, наверное, интересный.
В довершение ко всему в пристройке рядом с тем же «Полетом» открыли «цех по обработке мраморных и гипсовых плит». Пыль оттуда полетела такая, что пройти рядом без противогаза или на худой конец без респиратора было невозможно. Это обстоятельство, вероятно, кого-то так достало, что пристройку вскоре подожгли, и «Полет» не сгорел только чудом.
В головах людей путались понятия, принципы и, самое главное, – уничтожалась главная идея, ради которой существовала нация. Статью Конституции о «главенствующей роли КПСС» отменили, «мир во всем мире», о котором говорили девочки Саманта Смит и Катя Лычева, вроде настал: в США перестали видеть противника. Люди получили возможность сравнить жизнь ТАМ и ЗДЕСЬ, и увидели, что капитализм не так ужасен, а социализм не так хорош. Более того, многие захотели жить, как ТАМ, взяв за основу заманчивую идею – деньги. Но деньги шли в руки избранным…
Большинство людей уже не только не мечтали о светлом будущем, но и переставали верить в завтрашний день. Утонувшая советская подводная лодка с атомным реактором волновала людей куда меньше, чем цена на хлеб, пока незаметно, медленно, но верно поднимавшаяся каждый день.
Жить становилось все хуже. Кого винить?
Крайние нашлись. Это были те, кто жил рядом, но чем-то отличался: внешностью, языком, обычаями… национальностью, в конце концов.
Еще в 1987–1988 годах республики стало лихорадить. Советская дружба рушилась. Армяне устроили резню азербайджанцам: около трехсот азербайджанцев было зверски убито, среди них женщины и дети. Около 250 тысяч азербайджанцев, курдов, русских было изгнано из Армении. И даже когда Божья кара настигла армян, обрушив на них землетрясение, где погибло более 25 тысяч людей, армяне не вразумились. Но азербайджанцы не остались в долгу: в январе 1990-го они устроили двухдневный погром, соревнуясь с недругами в жестокости. Советская армия ввела в Баку войска.
Все чаще раздавались антисоветские лозунги в Тбилиси и выяснялись отношения в республиках Советской Прибалтики, все чаще можно было услышать разговоры о том, что нас, русских, притесняют. У кого родня, у кого просто знакомые, жившие в других республиках, стали вдруг возвращаться на родину. Они называли себя «беженцами» и с ненавистью рассказывали о ранее дружественных народах. В свою очередь, в городе подымалась волна неприязни ко всем «нерусским», а в первую очередь – к «лицам кавказской национальности». Они торговали на рынках дорогими фруктами и клеились ко всем русским девочкам. Наступила фаза тревожного ожидания, нарушаемая редкими вялыми стычками «на почве национальных конфликтов».
Стычки эти – обычно избиения поздних прохожих, у которых вдруг оказывался слишком загорелый цвет кожи или разрез глаз не соответствовал стандартному. Так, сильно избили одного щупленького мужчинку, который, как оказалось, с детства жил в нашем городе и усыновил вместе с женой десять русских детей.
– Смотри, шатаешься вечерами, – сказала как-то мама моему отцу, – а ведь ты мордвин. Нерусский!
Папа засмеялся:
– Я же паспорт всем не показываю. Внешность – русская, фамилия – тоже. Между прочим, мать моя – чистая русская, а отец – наполовину русский, наполовину мордвин. Так что я мордвин на одну четверть.
– Значит, я – на одну восьмую? – вмешалась я. – И в паспорте мне могут написать, что я мордвинка?
– Если ты этого захочешь.
– Тогда я захочу.
– Еще чего! – набросились на меня оба родителя. – Не вздумай! И другим поменьше болтай.
Я радовалась, что вызвала их раздражение на себя, и, естественно, ничего не болтала, искренне волнуясь за папу, когда он пропадал дольше обычного. Повод для волнения был: один раз папу ударили по лицу и вырвали сумку из рук, едва он вышел из проходных стройтреста. В тот день выдавали зарплату.
Впрочем, избить могли и просто так, «пар выпустить». Потому что почти прекратились по городу обычные милицейские патрули: бензин милиции выдавали по норме, и сверх нее взять было неоткуда. Телефонные автоматы на улицах в лучшем случае просто не срабатывали, в худшем – тоскливо краснели с вывороченными трубками.
В автобусах ездить можно было, только заткнув уши: все ругались. Жители правого берега Волги злились на жителей левого берега за то, что на их комбинате зарплаты были выше, а в магазины продукты завозили чаще; бюджетники завидовали тем, кто работал в коммерческих структурах; покупатели презирали торгашей… Все тихо ненавидели москвичей, которые ввели у себя особые карточки на товары. Правда, мой отец оказался удивительно шустрым: он изготовил две такие карточки, и они с мамой съездили в Москву, привезя продукты, как в былые времена. Папа подделывал потом также и наши провинциальные карточки, выписывая черной тушью слова «рис», «греча», «сахар» на полях тисненой бумаги в книжке покупателя. Мама, впервые восхваляя его талант, вырезала эти квадратики, чтоб никто не догадался, из какого они места, и отоваривала при возможности в магазине.