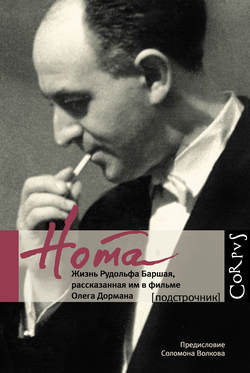Читать книгу Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега Дормана - Олег Дорман - Страница 21
Нота
18
ОглавлениеМузыканты в квартете – очень сложный мир. Был такой Люсьен Капе, основатель легендарного французского квартета. Мой педагог Вульфман у него в Париже учился. Капе говорил: “Я нашел музыкантов и потом сделал из них людей. Но если бы начинал сейчас, поступил бы наоборот”. Вот я лично всегда именно к этому и стремился: чтобы мы были единомышленниками. Для игры в ансамбле человеческие качества важнее музыкальных. Да-да. Если прекрасный музыкант не обладает скромностью, гибкостью, терпением, не хочет слышать партнера, он не добьется хороших результатов в ансамбле. Многие знаменитые солисты оказывались в квартете совершенно беспомощны. Необходимо довериться интонации партнера, только тогда усилия каждого превратятся в музыку. Сколько раз я замечал на выступлениях, что моя левая рука движется как будто помимо моей воли: она следовала за игрой моих товарищей, и в результате получалось хорошо.
Я был никакой не руководитель, просто один из четырех участников квартета. Но, когда мы начинали, произнес речь. Сказал, что, вот, теперь нам предстоит вместе провести жизнь и мы должны делить все радости и невзгоды. Если у нас только огурец и больше нечего есть, надо этот огурец разделить на четыре части. Мы объединяемся ради того, чтобы добиваться совершенства, и только если будем на самом деле как родные братья, то сможем достичь больших успехов в музыке. А иначе ничего не получится.
Все были согласны. Молодые были. Еще не очень-то хорошо знали самих себя и друг друга.
После освобождения Минска Дубинского пригласили туда играть в квартете, и он уехал, но через некоторое время вернулся, и превосходный скрипач Леон Закс, занявший было его место в нашем квартете, ушел. Грише Кемлину не понравилась эта история, и он тоже ушел из квартета. Вместо него с нами стал играть Володя Рабей, ученик Ямпольского, чудесный парень, он к тому времени уже закончил консерваторию. Он ребенком жил в Берлине, его отец работал там в торгпредстве, Володя знал три языка, был очень образован и нас тоже развивал по мере возможности: приносил почитать всякие интересные научные статьи, прививал нам любовь к поэзии – знал множество стихов наизусть.
Жили мы в коммуналках, а Валя вообще за городом. Репетировали по кругу: у одного, потом у другого. Пультов не было, сидели за столом. Клали на него ноты, садились по сторонам и играли. Иногда после нескольких часов работы от усталости ложились на пол, вытягивались на десять минут – и снова к столу. У Ростика дома была такая теснота, что однажды пришлось репетировать в ванной – там оказалось просторнее.
Часто я приходил в консерваторию очень рано, к половине седьмого, чтобы позаниматься до начала уроков, не беспокоить дома соседей. Никого еще не было, тишина, только возле памятника Чайковскому старик с длинной седой бородой кормил голубей, воробьев, синичек. Снегири тогда еще жили в Москве. Это был Александр Федорович Гедике. Он считался отцом русских органистов, вел класс органа и класс оркестровой игры, был композитором. Он жил прямо в здании консерватории, во флигеле на втором этаже. Добрейший, деликатнейший, благородный человек. Единственный раз я видел, чтобы спокойствие изменило ему. Наш профессор Тэриан пришел погулять возле консерватории со своей собакой и демонстрировал студентам чудеса дрессировки: его бульдог по команде взобрался на дерево и уселся высоко на ветке. Александр Федорович был возмущен и качал головой: “Михаил Никитович, ну как же можно, это ведь не по-христиански, такое издевательство над живым существом!” Сам он был страстным кошатником, и в этой его квартире во флигеле жило столько котов, что он их путал. Помню, мы с Таней Николаевой, прекрасной пианисткой и моей дорогой подругой, с которой он меня и познакомил и потом мы много вместе выступали, были у него, и Александр Федорович говорит кошке: “Катюша, душенька, будь-ка добра, слезай с подоконника, ты простудишься. Ах нет, да это не Катюша. Василий, сойди на пол, холодно”.
Позже мы играли с ним его фортепианный квинтет. Сыграли первую часть – чудесная музыка, только… как бы это сказать? – один в один квинтет Танеева, любимого ученика Чайковского. Сыграли вторую – квинтет Танеева. Гедике посмотрел на наши недоуменные лица и говорит: что, думаете, это квинтет Танеева? Мы молчим. Неловко ужасно, ну что тут можно ответить. А Александр Федорович вздохнул так кротко и говорит: “Так и есть. Но, признаюсь по чести, Сергей Иванович написал свой квинтет после моего”.
Зимой сорок шестого мы раздобыли номер телефона, собрались с духом и позвонили Шостаковичу. “Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте, это говорит Рудольф Баршай, студент”. – “Да-да, я вас знаю”. – “Мы вот выучили ваш Первый квартет, от которого мы в восторге, и хотели бы вам его сыграть”. – “А когда у вас следующая репетиция?” – “Завтра”. – “В котором часу?” – “Рано, в девять утра…” – “Где?” – “В сорок седьмом классе, в консерватории на третьем этаже”. – “Я буду, в девять часов буду”.
Мы, само собой, пришли заранее, чтобы настроиться, разогреться, и все время высылали дежурного смотреть, не идет ли Шостакович. Он опоздал на три минуты. Вошел в класс, поздоровался – и за эти три минуты опоздания перед нами десять минут извинялся. Этот гениальный музыкант, профессор перед мальчишками извинялся десять минут. “Вы знаете, – говорит, – я никогда не опаздываю. Это мой принцип – быть точным. Но сейчас я опоздал из-за того, что на улице морозно, и из-за мороза у меня возникли проблемы с транспортом: автобус не ходил, трамвай не ходил, и вышла у меня из-за этого накладка”. Мы были поражены. Шостакович сел, мы взяли инструменты, заиграли.
Он был очень доволен. Ему понравилось. Говорил, что мы все правильно выучили и верно играли. Мы были на седьмом небе от его похвал. Говорим: мы хотим играть все, что вы будете сочинять. Он сказал: “Я буду счастлив”.
Я осмелел и, провожая его, говорю: “Дмитрий Дмитриевич, а вы не разрешите мне иногда вам показывать мои сочинения? Я немножко занимаюсь инструментовкой…” – “Да-да, конечно, конечно. Всегда, в любой момент. В девять утра я всегда сам подхожу к телефону. Ровно в девять звоните – попадете на меня, и сговоримся”.
С тех пор, должен сказать, я пользовался этим телефоном довольно часто. И не было случая, чтобы я попросил его об уроке, а он ответил, что сегодня занят, или даже просто предложил бы перезвонить. Ну, может, два, три раза назначал точный час на следующий день. Но обычно отвечал: “У вас рукопись при себе?” – “Да, при себе”. – “Тогда приходите сегодня”, – если днем, то в консерваторию, а чаще, к вечеру, к нему домой. В течение тридцати лет, сколько мы с ним встречались, не было ни одного случая, чтобы он мне не то что отказал, а отложил встречу. Такой был человек. Великой доброты, великого ума, великий человек. Я обязан ему до конца моих дней.
Усаживал меня на диванчик, брал мою партитуру, садился за стол и за столом, не за роялем, изучал ее. В ноты смотрел примерно минут двадцать, а могло быть и полчаса, после чего вставал, партитуру оставлял на столе, подходил к роялю и играл мне все, что я написал, наизусть. Причем так, что я слышал все голоса. Невероятно. У него от природы были феноменальные данные. Как он в шутку предлагал нажать на десять случайных клавиш, а потом одну отпустить, и он, не глядя, говорил, какую ты отпустил. Редакции свои гениальные “Хованщины” и “Бориса Годунова” Мусоргского он делал по памяти. Сказал мне: “Не хочу, знаете, чтобы на меня что-то влияло, чтобы что-то отвлекало, – поэтому решил не смотреть ни в рукописи, ни в издания”.
Замечания его были исключительно точными, дельными, и не раз бывало, я уже по пути домой обдумывал какое-нибудь из них, показавшееся мелочью, и понимал, какой урок там скрыт. Смотрит-смотрит в ноты, потом говорит: “Вот в этом аккорде у вас не хватает квинты, а надо, чтобы все было”. Или: “Я смотрю, вы тут написали партию валторн, а потом зачеркнули…” А меня предупредили друзья, что партитуру надо приносить Шостаковичу написанной чернилами, ни в коем случае не в карандаше. Поэтому я в первый раз пришел к нему, не спав ни минуты: всю ночь переписывал. Позже он и сам мне говорил: никогда не сочиняйте за роялем или за бумагой, все должно сложиться в голове, только потом пишите. Но в тот раз что-то у меня было зачеркнуто. “Да, Дмитрий Дмитриевич, хотел посоветоваться – может, валторны все-таки не помешают?” – “Нет-нет, могу вас только поздравить с тем, что обошлись без них. Чем меньше элементов будет в вашей партитуре, Рудольф Борисович, тем она ценнее”.
Но никогда не поучал, всегда с юмором. “Ну что ж, – говорит после первой нашей встречи, – в процессе этой работы вы многому научились. Первая часть – твердое “хорошо”. Вторая – намного лучше. Третья – мастерски, знаете ли, просто мастерски”.