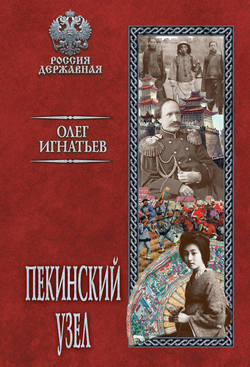Читать книгу Пекинский узел - Олег Игнатьев - Страница 6
Часть первая. Оскал тигра
Глава III
ОглавлениеОставив в Иркутском казначействе пятьсот тысяч рублей, выделенных правительством для обустройства посольства в Пекине, Игнатьев выехал в Кяхту. По пути он заехал в Верхнеудинск и осмотрел оружие, собранное для китайцев. Арсенал выглядел весьма внушительным обозом и насчитывал триста восемьдесят подвод. Чтобы не разбить на горных дорогах Монголии крепостные пушки, предназначенные в дар Пекину, Николай решил переправить их морем, а самому добраться до Китая «малым штабом».
Чем меньше штаб, тем легче выиграть сражение.
Девятнадцатого апреля он со своим отрядом въехал в Кяхту: отсюда до границы с Монголией рукой подать.
Кяхтинский градоначальник Деспот-Зенович выехал ему навстречу и после приветственных слов, нахмурился:
– Вчера из Урги вернулся пограничный комиссар Карпов. Он сообщил, что монгольский амбань отказывает вам в проезде в Пекин.
– Он что, белены объелся?
– Гороха, – мрачно пошутил Деспот-Зенович. – Все они жулики, живут обманом.
Расположившись в отведенном ему доме со скрипучими полами, Николай тотчас написал запрос в Трибунал внешних сношений Китая: на каком основании его, посланника русского царя, местный монгольский невежда держит на границе? В этой своей обвинительной ноте он заявил, что будет ждать ответа в течение двух недель, поскольку торопится передать китайскому правительству оружие и офицеров-инструкторов. В противном случае он оставляет за собой право следовать в Пекин согласно Кяхтинскому договору.
Когда конверт был засургучен и отправлен, Татаринов постарался успокоить Игнатьева.
– Не вы первый, ваше превосходительство, оказываетесь в столь нелепом положении. В прошлом году мы с графом Путятиным, назначенным в Китай посланником и полномочным министром, точно так же сидели в Кяхте.
– И чем это кончилось? – нервно побарабанил пальцами по столу.
Николай и отшвырнул от себя письмо монгольского чинуши.
– Тем, – ответил драгоман, – что мы вынуждены были отказаться от сухопутной экспедиции и, не дождавшись ответа на свою жалобу в Трибунал, добрались до Амура, пересели на пароход «Америка» и лишь таким образом добрались до Печелийского залива.
– В Японию?
– Да.
– Печально.
– А до этого, – вступил в разговор секретарь Вульф и поправил на носу очки, – такая же неудача постигла посольство графа Головкина. Прибыв в Ургу, он так и не дождался визита к нему ургинских чиновников, и только через год ему удалось подписать российско-китайский договор.
– Выходит, что маньчжурское правительство в третий раз оскорбляет Россию, – пристукнул кулаком по столу Игнатьев и возмущенно посмотрел на своего секретаря Вульфа, как будто в том была его вина. – Не понимаю, отчего мы с этим миримся?
– С Китаем нельзя говорить языком ультиматумов, – мягко заметил Татаринов. – Китай – это туманные намёки, велеречивая двусмысленность, очаровательные недомолвки и тотальная подозрительность. Это признание простоты жизни через её усложненность.
– В то время как бамбук – это просто бамбук.
– Всё так, но несколько иначе, – сомкнул ладони драгоман. – Европейцы считают, что есть белое и черное. Китайцы же утверждают, что нет чисто белого и нет чисто черного.
– Язычники, – скривился Вульф. – Их быт пронизан суеверием.
– Но есть ведь среди них и христиане? – поинтересовался Николай, все ещё не привыкший к мысли, что китайцы более строптивы, чем он думал.
– Есть, – ответил Татаринов. – И православные, и католики, и даже протестанты. Но христианство китайцев окрашено в буддийские тона. Их вера, а точнее, суеверие основано на страхе наказания всесильным богдыханом. От его недремлющего ока никто не спасется, никто не укроется. Если чего китаец и боится, так это нарушить указ императора. Поэтому китайцы знают все законы.
– Все? – изумился Игнатьев. – У нас, например, свыше десяти тысяч законов, а народ помнит лишь несколько, да и те не исполняет.
– Представьте себе, – сцепил пальцы Александр Алексеевич и тут же их расслабил. – Впрочем, почти так же хорошо они помнят свои любимые стихи и песни, а их китайцы за свои тысячелетия сочинили бессчётно!
– Надо же, – с большей почтительностью в голосе отозвался о китайцах Вульф, – так вы нас убедите, что китайцы великая нация.
– Кто живёт прошлым, будет жить в будущем, – раздумчиво сказал Николай и полюбопытствовал: – Сколько лет Китаю?
– Свыше пяти тысяч, – ответил драгоман.
– Старожилы, – раскрыл перочинный ножик Вульф и стал затачивать карандаши.
– Старожилы, – подтвердил Татаринов. – И вместе с тем китайцы ужасающе бедны. В Китае шагу не ступить, чтобы не столкнуться с побирушкой. Нищета повальная, извечная. Невозможно в это поверить, но в портовых городах матери торгуют дочерями и сразу же платят налог с этих продаж. Рыбаки, строители, торговцы, чистильщики улиц и ночные сторожа, оросители выгребных ям, слуги и господа втянуты в круговорот поборов, взяток, подношений. Есть недельная мзда, есть месячная, есть годовая. Все платят денно, нощно, регулярно. Все имеют свою долю и все делятся.
– Ассенизаторы тоже? – полюбовался остро заточенным карандашом Вульф и принялся за следующий.
– Все, – встряхнул головой Александр Алексеевич и пригладил свои темные густые волосы. – Тяжелее всего тем, кто зарабатывает собственным трудом, кому никто ничего не дает. Река – рыбы, земля – урожая. А подати надо платить, иначе не уйти от наказания.
– Какого?
– Тому, кто не платит, грозит разорение. Отбирают последнее, гонят на улицу.
– Страшно.
– Конечно. Поэтому каждый пытается сжульничать и прикопить. А лучше – продать. Один продает ребенка, другой – его увечье, третий – собственное уродство. Вместо извести вам продадут мел, вместо муки – известь. Все привыкли к обману и обманом живут и даже улыбаются при этом. В Китае все учтивы и благопристойны.
– Все? Всегда? – не поверил секретарь.
– Пока на них смотрят, – засмеялся Татаринов. – Отвернешься, рожи корчат.
– Лицемеры, – недовольно скривил губы Николай. – Мздоимцы.
Вульф внимательно посмотрел на него и задумчиво покатал карандаш по столу.
– Может, монгольский амбань ждет от нас взятки?
– Не дождется, – отрезал Игнатьев.
– Да нет, – возразил секретарю драгоман. – Мы ведь с вами не контрабандисты. Здесь другое: политика. Англичане и французы вновь угрожают Пекину войной, вот маньчжуры и колеблются: пускать нас, не пускать?
– Я теперь не знаю, как к ним относиться, – признался Николай. – С первого дня отношения не заладились.
– Относитесь с внутренней улыбкой. В китайцах очень много от детей: наивных и проказливых одновременно. Мужчины у них бреют лбы и носят косу, обмахиваются веерами и смеются на похоронах.
– Обмахиваются веерами? Как дамы?
– Да, – подтвердил Татаринов. – Мне, как драгоману посольства Путятина, много раз приходилось присутствовать на переговорах, и я подумал, что бамбуковые веера не просто охлаждали лица сановников. Похоже, ими пользовались при переговорах, как тайным шифром.
– А что? Вполне может быть, – отозвался Вульф. – Ведь у каждого веера свой цвет, орнамент, свой рисунок.
– А главное, иероглифы. Раскрывая веера и закрывая их, можно было не сговариваясь внешне, держаться одной линии по тем или иным вопросам.
– Плутовской народец, – сразу насторожился Николай, словно попал в общество карточных шулеров с их подлыми замашками. Нет, сам он в карты не играл и, если честно, презирал азарт корысти, чего не мог сказать об азарте ином, охотничьего свойства: выследить, догнать и поразить намеченную цель. Тут он был неукротим.
– Китайцам нравится правой рукой чесать левое ухо и делать вид, что таким образом они желают вам благ. Вяжут руки и тут же дарят розы, а когда вы эти розы не берете, выказывают жуткую обиду.
– М-да, – вздохнул Игнатьев. – Сумасброды.
Прошло несколько дней, и его разыскал посыльный отца Гурия, главы Русской духовной миссии в Китае.
Судя по письму, которое он передал, маньчжуры признавали Тяньцзиньский договор, но категорически отказывались от Айгунского. Отказывались они и от оружия, выражая крайнее удивление по поводу прибытия нового посланника с группой офицеров.
– Ну что ты будешь делать! – сокрушенно воскликнул Николай, передавая письмо Вульфу. – Хоть поворачивай назад.
Отказ китайцев принять оружие и офицеров лишал экспедицию её основной цели: организации военного дела в Китае – и в корне менял задачу, намеченную Министерством иностранных дел.
Он ходил из угла в угол и не знал, что придумать. Как быть? Он готов ехать, готов действовать; спешил, торопился, гнал коней, а тут такая… просто грубая подножка на бегу: бац – и на плац! Лежи, сопи и нюхай землю.
Оставалось набраться терпения и ждать.
Когда вам говорят: «Сидите, ждите», нет ничего разумнее, как следовать совету.
Игнатьев понимал, что ничего не добьётся, если начнет спорить с монгольским амбанем; тот выполняет волю Пекина.
«Жаль, – озабоченно думал он, глядя в окно, – мало взяли денег. Придется затянуть пояса: неизвестно, сколько ещё ждать ответа на свое вторичное послание. Весёленькое дельце – ничего не делать! Хоть садись и стишки сочиняй: «Сидели в Кяхте казаки, а с ними генерал».
На улице слепило солнце. Зацветали абрикосы. Земля быстро покрывалась мшистой травкой, лопушистой зеленью, иван-чаем и луговым мятликом.
На припеках появились одуванчики.
Командир казачьего конвоя, хорунжий Чурилин, сухопарый, мрачный, с покоробленным левым погоном и распущенной портупеей, бездумно охлёстывал нагайкой прошлогодний репейник и даже не глянул на козырнувшего ему гвардии капитана Баллюзека.
– А у вас, хорунжий, что, рука отсохла? – неожиданно придержал шаг и повернулся к нему всем корпусом артиллерист.
– Рука? – сдвинул на затылок папаху Чурилин. – Это с какого рожна?
– А с такого, – басовито заговорил капитан, – что младший, действуя согласно устава, обязан приветствовать старшего по званию отданием воинской чести, о чем вы, господин хорунжий, постоянно забываете.
Лев Фёдорович Баллюзек – высокий, широкоплечий гвардеец с пышными усами и чистым приятным лицом, пышущим отвагой и здоровьем, – относился к тому типу военных людей, которые привыкли подчиняться, действовать назло врагу, не отступать и в случае нужды легко принимают на себя командование, проявляя далеко не заурядные способности политиков и полководцев.
– Ну, – вызывающим тоном произнёс Чурилин, – не заметил.
Он вскинул руку и демонстративно долго не отрывал её от виска, надменно вытянувшись в струнку.
– Не подобострастно, – заметил Баллюзек. – Вы отдаёте честь не мне, а славе русского оружия, мундиру русского солдата.
– Вольно. – Чурилин бросил руку вниз. – Вам ясно?
– Так точно!
– Постарайтесь меня понять, господин хорунжий.
– Постараюсь, господин капитан.
Чурилин откровенно ревновал Баллюзека к Игнатьеву. Он, командир казачьего конвоя, лично отвечает за жизнь молодого генерала перед государем императором, а тут какой-то капитанишка лезет в глаза, цепляется по пустякам, чего-то петушится. Ревность его была оправданна: Игнатьев сразу приблизил к себе Баллюзека. Внешне они очень походили друг на друга – ростом, статью, разворотом плеч. Тёмными красивыми глазами.
В это время к Чурилину и Баллюзеку подошел Игнатьев. После приветствия распорядился построить казаков. Хотелось познакомиться с каждым поближе. Кое-кого он помнил по Хиве и Бухаре, но многих видел впервые.
Когда казаки построились, ровно двенадцать человек с хорунжим, он залюбовался «своей гвардией». Больше всего ему нравились уральцы: их песни, их выносливость и храбрость. Он шел вдоль строя, пожимал широкие мозольной твердости ладони, узнавал лица: урядник Ерофей Стрижеусов – ладный степенный казак лет тридцати. Синие глаза, брови вразлёт. Кавалер двух солдатских Георгиев. Ходил с Игнатьевым в Хиву и Бухару. Из уральских староверов.
Рядовой Антип Курихин – сибирский казак, взятый с линии. Белесый, бойкий, прирожденный верховод. Из тех проныр и непосед, за которыми в полку, в казарме, нужен глаз да глаз: того гляди, набедокурят. Несмотря на свой небольшой рост и худоватую шею, он отличался ловкостью и силой, слыл рубакой: обладал неотразимым сабельным ударом. Курихин показательно джигитовал, но все-таки не столь безудержно и лихо, как Семён Шарпанов – казак с роскошным чёрным чубом. Шарпанова он помнил по «хивинскому походу». Он выполнял головокружительные трюки: надвинув на глаза папаху, вспрыгивал в седло бегущего коня, выхватывал клинок и револьвер и начинал ими жонглировать. Бухарский хан Наср-Улла диву давался и предлагал Игнатьеву большие деньги за Шарпанова, не понимая, что казак не продаётся. В Средней Азии всему своя цена: все продаётся и всё покупается – были бы деньги. Стрелял Семён Шарпанов с обеих рук, даже на полном скаку из-под брюха коня. Из карабина плющил медную полушку со ста метров, из револьвера – с тридцати. Поговаривали, что он на спор ловил зубами пулю на излёте и на глазах у всех легко расхрупывал стекло граненого стакана. В казачьем деле умел всё. Если же чего не мог, так это отказаться от курения, милой его сердцу самокрутки. Николай не раз слышал, как он говорил: «Баба омманет, а табак – никады».
Рядовой Савельев – тоже уралец – так же был в Хиве и Бухаре. Обычный, ничем не примечательный казак, таких на свете много, но возле него всегда теснились сослуживцы, делились табаком, судачили, курили. Словно грелись у незримого огня. Его рыжая борода и глаза с добрым прищуром, пронизанные жёлтым светом, выдавали его зрелость и радушие.
«Крепкая команда», – мысленно похвалил конвой Игнатьев и пригласил офицеров отобедать вместе с ним; посольство что семья.
– Вольно, – скомандовал хорунжий, и, придерживая саблю, поспешил за Баллюзеком.
Камердинер Дмитрий Скачков пропустил его вперед и внёс в дом кипящий самовар.
Потянулись дни ожидания.
Уже отгремели первые майские грозы, буйно цвела сирень, свистали соловьи, когда из Урги прибыл гонец – богдыхан милостиво пропускал нового посланника в Пекин.
Игнатьев понял, что его военная миссия превращается в сугубо дипломатическую, и сразу запросил Горчакова о предоставлении ему соответствующих полномочий.
Поручика Лишина пришлось отправить в Верхнеудинск, поближе к арсеналу. Чтобы оправдать присутствие офицеров, Николай назначил капитана Баллюзека своим адъютантом, а топографа Шимковича – писарем. Секретарем посольства по-прежнему числился надворный советник Вульф, а переводчиком с китайского – статский советник Татаринов. С монгольского языка должен был переводить хорунжий Чурилин. Кстати, он его неплохо знал: рос на границе.
Памятуя о том, как быстро распространяются слухи в Азии и какое здесь огромное значение имеет внешний блеск, Николай постарался обставить выезд посольства в Китай самым торжественным образом.
В заглавном соборе отслужили напутственный молебен.
Игнатьев вышел на площадь.
Его приветствовали толпы народа и специально присланные войска. Об этом позаботился наказной атаман Восточной Сибири генерал Корсаков, временно исполнявший обязанности губернатора в отсутствие графа Муравьёва, который отбыл в Японию, а также градоначальник Деспот-Зенович. Затем воинство запылило по дороге к границе, а он отправился вслед пешком, сопровождаемый высыпавшими на улицу жителями Кяхты, Троцкосавска и окрестных сёл.
Земля просохла, день был ясным, по-весеннему тёплым.
Казаки ехали верхом.
– Ты полицмейстерскую дочку видел?
– Барышня, вопче.
– Огладистая. Видно баловство.
– А бабы, гля, слезьми текут. Жалкуют.
– Оне и плачут, што хворать не любят. Слеза – она лечит.
– Сердешная – да, а кады нарошно, тады эфто каприз.
– Вода, – зевнул Шарпанов. – По дороге сохнет.
– Будя, станишные, трепать мочало, – прицыкнул Савельев. – День он святой: Рассею покидаем.
Казаки примолкли – в самом деле.
Когда добрались до околицы: нейтральной полосы между русской Кяхтой и монгольским Маймачином, повернулись лицом к родине, к православным её храмам и церквям.
Обнажили головы.
Истово перекрестились.
– Мати скорбящая, дай возвернуться…
Игнатьев распрощался с провожающими, поблагодарил войска и сел в коляску.
Почётный конвой из трёхсот сабель, сопровождавший миссию до первой монгольской станции Гила-Hop, дружно грянул песню.
Как ходили казаченьки на край – на границу,
Вороных коней седлали, жёнок целовали.
Под свист и гиканье удалялась русская земля.