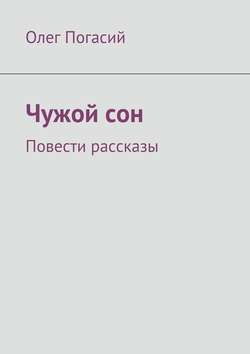Читать книгу Чужой сон. Повести рассказы - Олег Погасий - Страница 3
Повести
Чужой сон
2
ОглавлениеСолнце припекало еще по-летнему, прогревая нутро пригородного поезда. Бросив рюкзак на полку, Кирилл сел у окна, прислонившись к теплой спинке сиденья. Народа немного. Хорошо. Можно всласть развалиться, а не сидеть, как вкопанному, перекладывая затекшие ноги. Поезд, раскачиваясь, и поскрипывая, как старый шифоньер, набирал ход. За окном мелькали серые фасады промзоны, длинные свинцовые лужи, бесконечные гаражи и бетонные заборы, разрисованные радужными угловатыми облаками, нацболовскими символами и «факами».
Кирилл зевнул и отвернулся; вяло обвел взглядом вагон, прикрыл глаза и углубился в темноту, пульсирующую привычными для него, много раз прокрученными на разные лады, рассуждениями.
Если кто-нибудь его спрашивал: «чем он по жизни занимается?», – Кирилл, многозначительно выдерживая паузу, помявшись, и помня завет классика «скрывайся и таи», слабо улыбаясь, что-то там врал, или, мягко говоря, вводил в заблуждение, – называясь то продавцом-консультантом обувного магазина, или грузчиком супермаркета, или, на худой конец, – лицензированным охранником.
Ну, во-первых, – эта идиотская постановка вопроса взрослому человеку относительно его места работы – «чем занимаешься?». Раньше спрашивали: «Где работаешь, кем работаешь?». А применительно к настоящему моменту: « Что делаешь?». Тяжелые глыбы этих слов, тогда казалось навсегда будут звучать фоном жизни. Кириллу это напоминало мраморную доску, ввинченную в фасад послевоенного ампира, с высеченными на ней датами жизни какого-нибудь видного советского деятеля науки или искусства, и с надписью, пугающей безысходностью перед временем: «Здесь жил и работал…» Это отдавало кладбищем. Но с начала девяностых лексика и синтаксис сильно изменились. Неработающие россияне перестали именоваться тунеядцами, появились «фрилансеры», а чтобы управлять крупным предприятием необязательно было иметь диплом технического вуза. Еще в детстве родители бывало найдя Кирилла, мечтательно уставившегося в трещинки на потолке или пространно наблюдающего легкое колыхание занавесок, тронутых весенним ветерком, строго опускали его на землю: «Хватит ковырять в носу, иди, займись чем-нибудь». Лет через двадцать он, наконец, последовал родительскому наказу, занявшись мелкооптовым сбытом повсеместного тогда дефицита. Вершиной его деятельности была торговля отечественной курятиной, при этом он успевал «втюхивать» еще и импортные презервативы. А один его знакомый настолько перестал «ковырять в носу», что перепробовав дюжину занятий, и вняв другому устойчивому выражению, стал «рыть землю рылом», занявшись перепродажей земельных участков.
Но это дела давно минувших дней, и в этом для Кирилла стояла лишь проблема выживания. Его ум и сердце мечтали совсем о другом. Как-то у одного известного литератора он вычитал, что назваться сейчас поэтом – будет равнозначно тому, чтобы заявить о себе: «Я – сумасшедший!».
Один раз, тоже в пригородном поезде, отвечая на такой вопрос, сидящему рядом бровастому дачнику, под настроение он выдавил из себя это подозрительное слово «поэт». Это вызвало удивление, быстро переходящее в скуку. К персоне Кирилла был потерян всякий интерес. Дачник нахмурил брови, закрутил головой по сторонам, и поспешил пересесть, бросив на прощанье испуганный взгляд. А никем другим, кроме как поэтом, «по жизни» Кирилл Воронин себя и не считал.
Чуткого слуха задремавшего Кирилла коснулись заунывные звуки, правда, похожие на музыку. Воронин открыл глаза. Напротив сидел юный паренек. Его худое тело было утоплено в стильные джинсы и майку непомерных размеров. Он выдувал изо рта розовый пузырь жвачки, болтал ногами в кроссовках со светящимися шнурками, и дергал головой в такт музыке, которую слушал через айфон. «Русский рэп, этого еще не хватало, – поморщился Кирилл, расслышав плохую ритмику речевок – придется теперь слушать этот маразм». «Что же ты, дорогой мой, слушаешь, – любой темнокожий из Бронкса или Гарлема споет тебе лучше» – хотел было образумить рэппера Кирилл, но увидев стену русского леса за окнами несущегося поезда, мягко улыбнулся и решил, что, пожалуй, не стоит. Закрыл глаза и постарался использовать раздражающий фактор в качестве толчка, пружины для разгона своих амбициозных помыслов. Он почти не сомневался в успехе задуманного.
«Всё дело ведь в музыке, или в ритме. В вибрации этого бесконечного пространства. Надо только уметь слышать. Стать частью этого пространства, на какой-то миг потерять себя в его безднах, чтобы потом вознестись к его звездам» – сладострастно накручивал себя Воронин и сильнее сжимал глаза, как будто стремясь еще больше сгустить тьму, тем самым приблизив к себе. Он решительно отказывал современной поэзии в каких бы то ни было попытках отобразить эти космические вибрации. Завязать их в один узел с ритмами сегодняшнего дня. Считал её местечковой, давно потерявшей свое сакральное назначение. И потому никак не причислял себя к весьма многочисленному поэтическому цеху. Он бы определил себя – диссидентом поэзии. Катакомбной её церковью. И если и называть их поэтами, – то нет, увольте! – для себя он готов подыскать какое-нибудь другое слово. Одни вовсю эксплуатировали своё филологическое образование, расширяли лексику, баловались историческими аллюзиями. Другие вводили прозаизмы и экспериментировали с размерами. Третьи «висели» сплошь и рядом на цитатах, превращая свои вирши в ребусы для непосвященных, немногочисленных читателей, но подыгрывали желчным критикам. А авторы верлибров, на взгляд Воронина, вообще окончательно выпихивали всякий дух музыки из текста. Были и последователи традиционного стихосложения. Хорошо усвоив технику, двигаясь по гладко обкатанной дороге, они добивались признания, получали премии, штампуя вполне добротные стихи. Но каких бы успехов кто бы ни добивался, а случались и превосходные стихи, и даже выпадали гениальные, это все равно ничего не меняло, – в них не было магической силы, способной творить жизнь. Иногда несколько снижая накал своих страстей, Воронин всё же допускал, что возможно кого-то упустил, не читал. Да, он бывал самонадеян, заносчив, но что с этим можно было поделать, если Воронин твердо верил, что заполнить этот бездонный вакуум призван именно он. Это убеждение преследовало его с того самого дня, когда придя из школы, он забыл выдернуть из розетки шнур радио, и после вечерних новостей, вместо концерта по заявкам, вдруг зазвучала «Весна священная» Стравинского. Кирилл был дома один. За окном расползались сумерки. Улицы были пустынны, как в зарубежном фильме. Он так и не включил свет. Он так и просидел в оцепенении у приемника, застигнутый врасплох этой музыкой. Звуковые картины вошли в его тело, растеклись по кровеносным сосудам, стали частью его самого. Он тогда сразу получил Знание. Посвящение в Великую Тайну Ритма. Это он понял чуть позже, ночью, ворочаясь на кровати, освещенный почти осязаемым светом луны. Но нужно еще многому учиться, набираться терпения, отвоевывая у серых будней пространство того Великого Ритма, расширяя и упрочняя его в себе с каждым днем. И ждать, ждать, и ждать. Но теперь время настало.
Кирилл вздрогнул, почувствовав на себе взгляд, – и открыл глаза. Рэппер испарился, а на его месте расположилась пожилая чета. Мужчина, в брезентовом костюме лягушачьей расцветки и в спортивных тапочках фабрики «Динамо». Он беззастенчиво рассматривал Кирилла поверх очков, сдвинутых на кончик мясистого в рыжих волосинках носа. И его, очевидно, жена, в вязаной кофте с большими потрескавшимися пуговицами, и тоже в тапочках «Динамо». «Вася!» – шепнула она, испуганно дернув слегка подведенными глазами в сторону Кирилла. «Ну, Вася!» – зашипела она бесцветными губами и ткнула окаменевшего мужа локтем в бок. «Да!» – отозвался Вася и клацнул подозрительно ровными, белыми зубами. Поправил очки, придвинул тележку на двух колесиках поближе к себе, и склонил голову в огромный кроссворд, развернутый на коленях жены.
А Воронин, перехватив инициативу, на минуту задержал на них взгляд.
Нет, конечно же, это не его аудитория.
Этот Вася, с возрастом потерявший стыд и зубы, – какой-нибудь бывший начальник цеха, а его конфузливая благоверная – бухгалтер или старший экономист из той же конторы.
Для них поэзия в юности ограничивалась школьной программой. В молодости некоторыми стихами Есенина и Смелякова. А сейчас – двумя-тремя строфами с глагольными рифмами в поздравительных открытках с выдавленными ядовитого цвета розами или пестрыми тяжеловесными бабочками.
Воронин часто представлял себя, читающего свои магические стихи хорошо подготовленной кучке интеллектуалов.
Это могло быть в небольшом полутемном зале союза писателей или композиторов. С лепным позолоченным потолком и бархатными креслами с выгнутыми спинками и ножками. Он вводит публику в состояние транса, вещая им ту тайну, которую они тщетно пытались откопать в дебрях своего измученного рефлексией сознания. В конце чтения – ни с чем не сравнимая пауза признания, разрешающаяся взрывом восхищения.
Затем, это уже Дом Культуры, куда, заинтересованный его феноменом, стекается многочисленный и достаточно разношерстный контингент. И наконец, на сцене большого концертного зала в свете юпитеров при стечении широких масс; где, хлопая сиденьями, в числе всех прочих и васи с их женами заблаговременно рассаживаются по местам, чтобы культурно провести вечер.
Впрочем, к славе Воронин был почти равнодушен. Он жаждал другого. Он знал: кто откроет в себе Ритмы Вселенной и воплотит их в Слове – получит безграничную власть над сердцами людей; над всем миром, сотворенным этими ритмами. И сами последствия рисовались ему с каждым днем всё более фантастическими.
Воронин едва не прозевал свою остановку. Да и к тому же рюкзак с предательски зацепившейся застежкой ремешка за решетку полки.
Он спрыгнул на мокрую гальку насыпи один. Только что прошел дождик.
Туман клубился и клочьями цеплялся за верхушки высоких елей. Поезд растворился, как будто его и не было. От тишины звенело в ушах. Он закинул рюкзак за спину, вдохнул полной грудью дурманящий сырой воздух и, разглядев в траве тропинку, легко сбежал вниз.