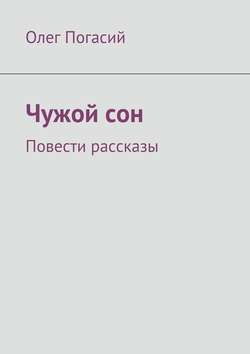Читать книгу Чужой сон. Повести рассказы - Олег Погасий - Страница 5
Повести
Чужой сон
4
ОглавлениеКирилла так сморило за день, что у него всего и хватило сил: сходить зачерпнуть полведра воды из ключа, бьющего в лощине недалеко от дома; с трудом растопить печь, поначалу гудящую холодом и выедающую глаза дымом; вскипятить, оставшийся еще от хозяев, закопченный насмерть с кривым носиком чайник; выпить подряд три стакана чая с мутноватой, но зато настоящей родниковой водой; и завалиться на кровать с железной сеткой, провисшей почти до пола, как в люльку. Сон окутал мгновенно, оставив в своем коконе лишь небольшие просветы реальности в виде пыхающей огнями, остывающей, печи, да далекого рыхлого лая собаки.
На следующий день Кириллу предстояло очень серьезное дело. Хотя, со стороны это могло показаться пустейшей затеей, или даже придурью. В сарае, где в потоках дневного света, пробивавшегося через щели, плавали пыль с паутиной, он отодрал, как шкуру, вросший в пол мешок. Растащил слипшуюся мешковину, хорошенько её встряхнул, кинул на плечо и, надев высокие резиновые сапоги, угрюмо простоявшие в углу бог его знает сколько времени, отправился в лес собирать опавшие листья. И был избирателен и в своей избирательности странен. Казалось, куда живописнее – осиновый багряный, как сбрызнут лимонным соком, – или березовый желтый-желтый, как яичный желток, в веселых крапинках, одно загляденье – ан, нет! – не суждено им оказаться в мешке. Красота, «очей очарованье», и прочее, – здесь явно не служили критерием отбора. Но выходило как раз и наоборот: полусгнившие, потухшие листья, как вот эти дубовые с завернутыми краями, похожие на подгоревшие оладьи, получали неоспоримое преимущество в сравнении с их прекрасными собратьями. Он подолгу всматривался, раздумывал, обнюхивал, а в некоторых случаях – пробовал на язык, прежде чем соглашался опустить листик в мешок. К полудню с листьями было покончено. Кирилл вывалил из мешка разложившийся невесомый труп облетевших деревьев в таз, помешал рукой по кругу, наклонился и глубоко вдохнул – у него засвербело в носу и он от души чихнул, что звякнула ложечка в стакане с недопитым чаем. А когда наступила полночь, Воронин вытащил из кармашка рюкзака фонарик, щелкнул кнопкой и направил луч на стену, проверяя интенсивность света – остался доволен – в ярком круге отчетливо просматривались блеклые ромбики выцветших обоев, которыми была оклеена фанерная перегородка, разделявшая дом на две комнаты. Он опять накинул мешок на плечо, натянул сапоги и отправился в ночную темень, на этот раз за травой. С травой оказалось куда проще. Высокая и густая покрывала весь овраг у ручья. Воронин стал было прочерчивать зигзагом света тропинку, как вскоре понял, что вполне может обойтись и без фонарика. Свет полной луны, делая всё вокруг похожим на таинственные декорации какой-нибудь одноактной ночной мистерии, выстилал главному герою белую дорожку прямо к зарослям травы. Но на полпути Воронин остановился. Воронин замер, увидев над черным лесом Фудзияму, горящую желто-зеленым светом! Это так постарались наплывшие тучи прикрыть луну. Или как будто кто-то невидимый маникюрными ножницами взял и вырезал из луны японскую гордость, отбросив обрезки, как ненужные «летающие тарелки». «Японская миниатюра в космическом переложении» – подытожил Воронин, подойдя к оврагу, и тут же мысленно отругал себя за непозволительную роскошь тратить время на постороннее. Но, как зачарованный, краем глаза еще разок глянул на луну. Фудзияма сильно покривилась и съехала вбок, но всё еще держалась на притянутом к первоначальному образу воображении Воронина. «И почему эта гора с длинными гладкими склонами – всё-таки Фудзияма, а не что-то другое, к примеру, – Ключевская сопка, тоже вулкан, на том же Дальнем Востоке, да и ключ бьет рядом? Это надо покопаться в себе. Хотя позже обязательно выстрелит». «Но времени, времени же впритык!» – одернул себя Воронин и, спустившись быстро в овраг, бросился рьяно рвать траву и набивать ею мешок. Он поначалу не придал этому звуку значение, пропустил мимо ушей. Но когда это повторилось, тревожно поднял голову. По телу пробежали мурашки. «Это что тут за плач ребенка?» – покрутил головой по сторонам Воронин. «Откуда-то сверху, и рядом». Он включил фонарик и осветил ель. Луч пробежал по дремучим тяжелым ветвям и скользнул по небу. Ни шороха. «Разгляди здесь чего-нибудь, ну и не лезть же туда ночью» – разрешил он ситуацию и сел на мешок нафаршированный травой. Ждал минуту, другую – повторится или нет? Хрустнула ветка. Воронин вздрогнул. Посветил на ель. На небо. Ночь. Неподвижность. И далекое кажется близким, и близкое так далеко, – в такую-то лунную ночь. « Может быть плачет во сне дитя в какой-нибудь деревне, зовет мамку. А я тут шарахаюсь вокруг елки». А вот и разгадка к Фудзи грохнула средневековой японской поэзией – «Ночь. Неподвижность и тишь. Зловещий плачь ребенка.» Подстроенная под русскую речь хокку-страшилка. «Такое настроение, всплывшее в той культурной традиции, бродило во мне, когда я вышел в ночь, ища за что бы зацепиться, и вот – сначала непосредственный зрительный образ, а потом, как обобщение – стих. Но был ли тогда плач ребенка, вот в чем вопрос?» – довольный такими измышлениями закинул Воронин мешок за спину и пошел в дом.
До двух оставался почти час. «Быстро я управился» – похвалил себя Воронин и высыпал мокрую траву на длинную лавку у окна. «Пускай подсохнет, а мне б немного расслабиться, такое услышать там… чуть сердце не разорвалось на части» – покачал головой и полез в скрипучий жесткий гамак кровати. «Странные вещи происходят со временем – старался переключиться он от, еще стоявшего в нем знаком вопроса, того пронзительного, надрывного плача – на отвлеченные темы – там под елью, в ночи, мне всё казалось, что не успеваю, времени в обрез, а сейчас, если вспомнить, то всё происходило как в замедленной съемке… или того больше, вообще отдельные кадры событий, как будто затстревали… и жизнь останавливались.» Размышлял Воронин, уже посапывая.
Он вскочил ровно в два. «Есть все-таки биологические часы!». Помассировал на локте розоватый рубец, оставшийся от сетки, потер руки и приступил к тому, ради чего весь сыр-бор. Взял со стола полиэтиленовый пакет, разрезал уголок ножницами, и высыпал порошковое молоко в глиняный кувшин. Налил из ведра воды в кастрюлю, подбросил в печь дрова, и, стащив кочергой закопченный кружок из пылающей дыры, обжигая пальцы, поставил воду. Вода вскипела в минуту. Воронин выпустил из-под брюк рубашку и, окутав краем материи кисти рук, снял с печи раскаленную посудину и поставил на стол. Вылил кипяток в кувшин. Комки белого порошка всплыли, но вскоре растаяли, как остатки льда и снега в периоды глобального потепления в Ледовитом океане.
Оставив молоко остывать, Воронин занялся листьями. Он отщипывал от листьев потемневшие, полусгнившие края, растирал их в ладонях и стряхивал в кувшин с молоком, а прилипшие к рукам кусочки счищал в молоко ногтем большого пальца. И с листьями Воронин справился скоро. Довольный, что всё идет как надо, он взболтнул своё варево и накрыл кувшин блюдцем. Собственно, всё, что он только что проделывал, было не чем иным, как претворением в жизнь магических строф, написанных им несколько лет назад, и как раз для этой решающей ночи.
Воронин обладал абсолютным поэтическим слухом, в этом он никогда не сомневался. Стихотворную метрику окружающего бытия, его осмысления, музыку жизни – он схватывал мгновенно.
Но жизнь, не всегда укладывается в прокрустово ложе классических размеров, и потому из-под его пера выходили самые неожиданные комбинации. Это могло быть всё что угодно: какие-нибудь Кентавры Хореев и Пиррихиев, или Трибрахий пожирающий Дактиля. И прочие Чудовища. Но это его мало занимало. Этим пусть занимаются литературоведы и критики, это их хлеб.
Как и с этими строчками:
Молоко волью горящее в глиняный кувшин,
С листьев примешаю кровь и гниль.
Здесь неточная рифма «ин» – «и гн», соскальзывающая в «иль», – помимо того, что сдвигает, деформирует пространство, очерченное под мистическое действо, еще, ко всему, и выводит за эту черту. И если сильно захотеть, то начинают слышаться протяжные, жутковатые песни подслеповатых крючконосых колдунов, ворожащих над своим приготовленьем. А от звенящих металлом, неприступных «н» приходит понимание исключительности своей личности, наделенной высшим знанием.
А траву полночную разнесу кругом,
Запахи, как гвозди заколотят дом.
А здесь «ом» – «ом» создают гипнотическое ощущение замкнутого пустого пространства, вырывающегося из мелкотемья простой крестьянской избы и поднимающегося до обобщений, поистине, космического масштаба. А чего только стоит парадоксальная метафора « запахи, как гвозди заколотят дом»? И разве
не слышно как стучит молоток по согласным «л» – «т» – «т», и по «д» – «м» вбивает эти гвозди по самые шляпки?
Воронин взял с лавки охапку травы и стал разбрасывать по углам, всовывать в щели между бревнами стен, заталкивать под потолок.
Настала очередь за кровью. За его кровью. Хотя в стихотворном тексте говорилось про кровь гнилых листьев. Чья же в действительности должна быть кровь, знал только Воронин. Его, только его. Его кровяные тельца должны войти в соприкосновение, в неразрывную связь с молекулами и атомами природы. Так что, кто другой, без знания этого, как ни бейся за приготовлением магического пития, ничего не выйдет. Стих нарочито вводил в заблуждение. Тайное – не может быть делом рук непосвященных. Воронин раскрыл складной нож, и надрезал указательный палец правой руки. Когда кровь заполнила ранку и алая капля побежала по руке, он окунул кровоточащий палец в теплое молоко. Молоко потопило в себе его кровяные тельца, не оставив на поверхности никаких следов. «Ну вот и с этим покончено» – хлопнул по коленям Воронин, взял нож, подошел к окну и воткнул острое лезвие в переплет. «А это, – чтобы никакая нечистая сила, из любопытства, или зловредности не проникла в дом». Он подергал нож за пластиковую рукоять с никелированными заклепками. Нож держался крепко. До трех оставалось полчаса. Воронин поправил догорающую свечу в стакане, снова прикрыл кувшин блюдцем и, посасывая ранку, сел на лавку ждать.
Черное подспорье убелись как снег,
Никому ни слова – Тайну Слова мне
Аще избран ведать буду невредим,
Где другой не к месту – я – огонь и дым!