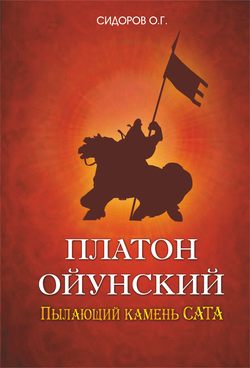Читать книгу Платон Ойунский: пылающий камень Сата - Олег Сидоров - Страница 2
Великий сын Якутии
ОглавлениеКнига Олега Сидорова, первое издание которой вышло в Москве, в знаменитой серии «ЖЗЛ» – важное событие в культурной жизни не только Республики Саха, но и всей Российской Федерации. Благодаря ей славное среди якутян имя Платона Ойунского имеет шансы обрести давно заслуженную известность во всей нашей стране и за ее пределами. Это особенно важно сегодня, когда многовековой союз народов России переустраивается на новых началах, подразумевающих истинное равноправие, взаимное уважение, знание культуры и традиций друг друга. Важная составляющая этого процесса – стирание «белых пятен» истории, воскрешение имен людей, чья деятельность в прошлом замалчивалась или искажалась. В Якутии среди них имя Ойунского стоит на первом месте. Уже давно республиканские историки, филологи, краеведы изучают его биографию, добившись немалых успехов в накоплении фактов. Книга Олега Сидорова выводит исследование на новый этап – глубокого осмысления судьбы Ойунского в контексте его эпохи, исторических судеб Якутии и России в годы революции, Гражданской войны, строительства новой жизни.
Биография Платона Ойунского удивительна и в то же время характерна для его великого и трагического времени. В 25 лет – один из лидеров якутских революционеров-большевиков. В 28 – председатель первого правительства автономной Якутии. В 36 – нарком просвещения и здравоохранения, организатор громадной работы по улучшению жизни якутян. В 46 лет он, как и многие представители национальной интеллигенции, был раздавлен «красным колесом» сталинских репрессий. За свою недолгую жизнь Платон Алексеевич успел сделать удивительно много: помимо государственной деятельности, он внес неоценимый вклад в якутскую литературу, науку, журналистику, изучение и сохранение народных традиций. Его перу принадлежат и обширные своды песен олонхо, и проникновенные лирические стихи, и шедевры гражданской лирики, зовущей народ к борьбе за светлое будущее. От Гомера до Маяковского – весь долгий путь развития мировой литературы уместился в творчестве одного человека, Платона Ойунского. Перефразируя известные слова Ломоносова, о нем можно сказать: «Может собственных Платонов якутская земля рождать».
Имя Ломоносова здесь далеко не случайно: русский гений был любимым героем Ойунского, дающим пример соединения поэзии и науки, государственного ума и тонкого лирического чувства. Неслучайно и имя Платона: взятое из православных святцев, оно напоминает о древнем мудреце, который через мифы древности раскрывал суть окружающего мира. Также поступил его якутский тезка, устами героев прошлого – Александра Македонского, Соломона Мудрого, Кудангса Великого – говоря о том, что волновало его самого и его современников. В своих произведениях он смог подняться от простого изображения природы, людей, событий к их глубокому философскому осмыслению. В этом ему помогало как изучение мировой, прежде всего русской классической литературы, так и проникновение в суть народной культуры, осознание своего родства с ней.
Потомок шамана-ойуна не только не отрекся от своего «старорежимного» происхождения, но и гордился им, что заставило его сменить родовую фамилию «Слепцов» на псевдоним «Ойунский». Это тоже глубоко символично: в фольклоре народов Севера обретение шаманом тайного знания сравнивается с прозрением, преодолением духовной слепоты. В том же фольклоре для общения с духами Верхнего мира шаман поднимается по радуге – «небесному мосту» – и сам становится мостом между мирами. Эту роль моста, соединяющего людей, страны, культуры, Ойунский считал общей в призвании шамана и поэта. В годы, когда шаманов, как и других «служителей культа», всем скопом причисляли к врагам народа, противникам советской власти, он в своей знаменитой поэме-олонхо доказывал, что шаман может быть «красным», сторонником перемен и борцом за народное счастье. Уже тогда его осуждали недоброжелатели из числа правоверных коммунистов, а позже симпатии к шаманству стали одним из пунктов обвинения в «буржуазном национализме», приведшего поэта на сталинскую плаху.
Судьбу Ойунского разделили его друзья и соратники – Максим Аммосов, Исидор Барахов и другие, – также не желающие, несмотря на верность большевистским идеям, сбрасывать народную культуру и традиции с «корабля современности». Благодаря им, в Якутии первых лет автономии не было ни гонений на религию, ни преследований национальной интеллигенции – напротив, ее пытались привлечь к строительству новой жизни. Сам Ойунский искренне уважал таких деятелей якутской культуры и науки, как Алексей Кулаковский-Ексекюлях, Василий Никифоров-Кюлюмнюр, Гавриил Ксенофонтов, ставя их вклад в просвещение народа гораздо выше идейных разногласий. Это тоже поставили в вину создателям якутской государственности, обвиняя их в реакционности, в нежелании решительно порвать с «проклятым прошлым». Когда их имена после реабилитации вернулись из небытия, первым, что бросилось в глаза, стала непреходящая актуальность их дел и идей. Если управленческий опыт Аммосова ставят в пример современным менеджерам, то идеи и образы Ойунского звучат вполне современно и с книжных страниц, и с театральных подмостков, и с оперной сцены. Его таланту удалось проложить еще один мост – от прошлого к будущему.
Актуальным сегодня выглядит и отношение великого сына Якутии к России и русской культуре. Сегодня и в российских республиках, и в странах СНГ (но особенно часто – за границей) приходится слышать, что Россия, как и другие империи, безжалостно грабила национальные окраины и угнетала их население. Доля истины в этом есть: царская, а потом и советская администрация обходилась с жителями подчиненных ей территорий далеко не самым гуманным образом. Другое дело, что сами русские при этом страдали не меньше, а порой и больше, чем представители других народов. Российская империя не знала ни геноцида по национальному признаку, ни насильственной ассимиляции – эти два фактора практически уничтожили коренное население «цивилизованной» Америки. В отличие от других колониальных держав, Россия не третировала подвластные ей коренные народы как дикарей, уравнивая их в правах с «титульной» нацией. Советская власть, несмотря на все ее ошибки и преступления, впервые предоставила многим народностям государственность, дала им письменность и современную культуру. Особое место среди народов нашей страны занимают якуты, которых сближают с русскими и несколько веков соседства и сотрудничества, и принятая без принуждения православная вера, и глубокое влияние русской культуры, через призму которой в Якутии воспринималась и культура мировая. Сознавая это, Ойунский был вполне солидарен с Алексеем Кулаковским, утверждавшим, что «белоглазый нуча» гораздо ближе и родственнее якуту, чем представители других стран, какие бы сладкие речи те не говорили.
Кулаковский-Ексекюлях умер на подъеме Якутской автономии, надеясь на ее процветание в составе новой России. Судьба Платона Ойунского оказалась куда трагичнее: он пережил крушение надежд, разочарование в идее, которой верно служил, а потом и физическую гибель в тисках репрессивной машины. Но, как справедливо сказано в книге Олега Сидорова, его слово победило и гонения, и смерть, и время – как любое вещее слово, вдохновленное вековым опытом и животворной силой народа.
Вадим Эрлихман,
кандидат исторических наук