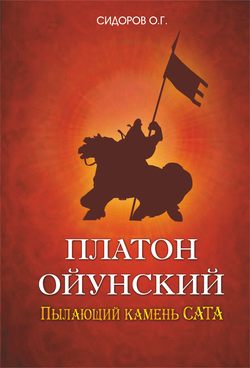Читать книгу Платон Ойунский: пылающий камень Сата - Олег Сидоров - Страница 3
ПРЕДИСЛОВИЕ
ОглавлениеМне ль быть на жизнь свою в обиде?
Мне ль пред своей судьбой робеть?
Мы все, родившись, солнце видим,
Мы все, родившись, встретим смерть.
И я умру – мой прах исчезнет,
Травой мой холмик порастет.
Но мной оставленные песни
В столетьях сохранит народ.[2]
П. Ойунский. Из стихотворения «Прощай»
В марте 1939 года, после того как его этапом доставили из Москвы в Якутск, после долгих дней и месяцев безвестности супруге Акулине Николаевне разрешили встретиться с ним. Это была очень тяжелая, трагическая встреча для них, людей, любящих друг друга и понимавших, что они, возможно, видятся в последний раз. Он, Платон Ойунский, измученный допросами и болезнью, произнесет слова, запомнившиеся жене на долгие годы, отчасти подводящие итог его краткой жизни, словно высечет в камне: «Торуом[3], запомни, Ойунский – бессмертный человек»[4].
Время, прошедшее с тех пор, покажет, насколько он был прав: его никогда не забывали и не забыли. Его пророческие слова сбылись. Бессмертны его произведения, бессмертно его имя. Он был пророком, он был гением своего народа.
* * *
На протяжении более чем полутора веков[5], начиная с похода Ермака против Сибирского ханства, после преодоления Смутного времени и воцарения Романовых Российское государство по равнинам, горам, сопкам, великим рекам и речкам, по тайге сибирской, преодолев тысячи и тысячи километров, вынеслось, словно лихая тройка, на берег Тихого океана. Путь этот был непрост и долог, если сравнивать с жизнью одного человека, одного поколения. Он был продиктован и направляем невидимой гумилевской пассионарной силой народов Российского государства, стремлением не только завоевать, освоить, но и познать и одухотворить эти богатейшие земли. Живущие на этих землях народы в большинстве своем приняли новое подданство, и щадящая колониальная политика Романовых оказалась для этих народов мостом в их стремлении к европейской культуре и грамотности. В этом неутомимом продвижении на восток, навстречу восходу солнца, Русское государство встретило союзника – тюркский народ якутов-саха.
Величайший якутский поэт и мыслитель Алексей Кулаковский (Ексекюлях Елексей)[6] в 1912 году в своем знаменитом труде «Якутской интеллигенции», проанализировав социально-экономическое положение якутов, пришел к такому выводу: «Но что же нам делать, что предпринять? Передаться Америке, Японии, Китаю? Нет – эти №№ не проходят: те нас быстро задавят в борьбе за существование, а белоглазый, большеносый нуча[7], не говоря уже о даровании православной веры, гораздо ближе нам, милее и родственнее их… Единственным рациональным средством является наша культивизация и слияние с русскими – благо, что помесь с последними дает хорошие плоды»[8]. Это утверждение Кулаковского стало итогом его размышлений о совместном сосуществовании якутов и русских в течение почти трех веков и явилось своеобразной программой на предстоящие десятилетия и до наших дней.
По предположению историков, в XII–XIII веках на благодатных землях Ленского плоскогорья, в трех великих долинах среднего течения Лены, обосновался народ саха, мечтавший созидать на этих землях свое национальное государство. Народ этот сумел не затеряться на просторах холодной части Азиатского континента, оказавшись здесь по воле Провидения, словно для того, чтобы сохранить в чистоте свой древний язык и культуру. Родоначальники народа Омогой, Эллэй, Улуу-Хоро и их потомки, якутские князцы, освоили огромное пространство, равное пяти современным Франциям, и сломали немало копий в своем стремлении к объединению племен и земель под сенью одной власти. Этот процесс не был завершен – история распорядилась так, что якутское государство созидалось совместно с Россией.
По истечении довольно короткого периода «притирки» двух культур Якутия стала форпостом, а потом и надежным тылом Российского государства на северо-востоке Евразии. Отсюда отправятся в походы на север, на восток и на другой континент – Америку – первооткрыватели. О роли якутов в освоении Дальнего Востока и Северной Америки написано немало трудов якутских исследователей и историков[9]. Якутский язык становится связующим звеном между русскими и другими народами Сибири. О масштабах роли якутского языка в тогдашней жизни в словаре Брокгауза и Ефрона сказано: «Торговля, земледелие, природная сметливость и предприимчивость Я. поставили якутский язык в Восточной Сибири приблизительно на ту степень, на которой стоит французский в Европе и арабский в Африке. Знание якутского языка дает в известной мере возможность общения с местными племенами на пространстве от Туруханска до Сахалина»[10].
О значении якутского языка писал и капитан Фердинанд Врангель, будущий адмирал и морской министр, посетивший Якутск в 1820-х годах: «Первоначальным воспитанием здешнего юношества объясняется с первого взгляда странным кажущееся явление, что даже в несколько высшем кругу общества якутский язык играет почти столь же главную роль, какую французский в обеих наших столицах. Это обстоятельство крайне поразило меня на одном блестящем праздничном обеде, который давал богатейший из здешних торговцев мехами в именины своей жены. Общество состояло из областного начальника, почетнейшего духовенства, чиновников и некоторого числа купцов, но большая часть разговоров была так испещрена фразами из якутского языка, что я, по незнанию его, принимал в беседе весьма слабое участие»[11].
О том, что сибиряки в своих беседах часто употребляли якутские и бурятские слова, упоминает в своем фундаментальном труде «Записки о всемирной истории» и философ-славянофил Алексей Хомяков[12]. В тогдашней России это был не только известный многим пример смешивания народов и языков, но и проявление взаимовлияния двух разных культур, их совместного бытия и развития. Исторически так сложилось, что Российское государство вело колонизацию на юге (прежде всего на Кавказе) и на северо-востоке по-разному. Современный культуролог Александр Эткинд пишет: «Гражданский мир в Якутске и колониальная война на Кавказе были двумя предельно различными ситуациями, но в обеих мы видим, что влияние русских на коренное население шло параллельно с обратным влиянием коренного населения на русских… К середине XIX века слово «креол» стало в Сибири общепринятым. Многие сибиряки – русские, креолы и инородцы – владели двумя языками и культурами, русской и местной, смешивая их до неразличимости»[13]. Он подчеркивает, что «процессы ассимиляции, гибридизации и мимесиса были продуктивны для культуры Российской империи».
На якутской земле процесс культурного взаимодействия, по выражению А. Кулаковского, «культивизации», был дорогой с двусторонним движением. Якуты привлекали исследователей своим загадочным происхождением, языком, культурой, прекрасной выживаемостью в суровых северных условиях. Они вдохновили немца Отто Бётлингка на его многостраничный труд «Über die Sprache der Jakuten» («О языке якутов») (тт. 1–3, СПб., 1849–1851), поляка Вацлава Серошевского – на фундаментальное этнографическое исследование «Якуты. Опыт этнографического исследования» (т. I, СПб., 1896; польск. изд. «Dwanas´cie lat w Kraju Jakutów», 1900), его соотечественника Эдуарда Пекарского – на «Словарь якутского языка» (тт. 1–13, СПб., Пг., Л., 1907–1930) и многих других. Их деяния обогащали культуру и науку не только Якутии, но и всего Российского государства.
Якуты рано и практически без сопротивления приняли православие, сохранив до наших дней такие церковнославянские имена, как Платон, Софрон, Пантелеймон, Акулина, Матрена и многие другие. К 1820 году была завершена массовая христианизация коренного населения Якутии, которое было обращено в православную веру на 99 процентов[14]. Якутия с благодарностью приняла труды таких священнослужителей, как святитель Иннокентий (Вениаминов), будущий митрополит Московский и Коломенский, апостол Сибири и Аляски, вложивший свою душу в просветительские деяния в этом северном крае. Здесь проводились с середины XIX века и проводятся до сих пор богослужения на якутском языке. «Бог заговорил по-якутски», – с трепетом и пониманием таинства говорят не только якуты, но и все местные жители.
Но время неумолимо. Начало ХХ века для императорской России стало временем смуты: поражение в Русско-японской войне, стачки и забастовки, политическое брожение и, наконец, революция 1905 года. Как спасение появился Высочайший манифест 17 октября 1905 года об усовершенствовании государственного порядка, открывший новую страницу в политической истории страны. Империя, пересилив свою волю, разделив власть между императором и Государственной думой, введя многопартийность, казалось, смогла преодолеть чересполосицу удач и неудач. Опять вернулся на короткое время блистательный век – но это была лишь передышка перед закатом, гибелью…
В то время Россия бурно развивалась. По темпам роста промышленного производства она твердо удерживала первенство. В 1913 году было пышно отпраздновано 300-летие династии Романовых, но впереди уже маячила тень будущих войн и революций. Российская империя вступала в зыбкую полосу социальных экспериментов, противостояния элит, а с другой стороны, генерирования новых социально-политических и художественных идей.
Якутия, далекая окраина, занимающая не последнее место в короне императорской России по своему «соболиному» и «золотому» вкладу, просыпалась вместе со всей остальной страной. В 1908 году журнал «Сибирские вопросы», характеризуя политическую борьбу в Сибири, утверждал, что «более организованно и целостно проявилось движение среди господствовавших на севере Сибири якутов», которых «общее течение политической жизни к концу 1905 г. захватило настолько глубоко, что местный губернатор в январе 1906 г. был вынужден обратиться к инородческому населению области с «Объявлением»[15]. Среди требований якутов были введение земства и скорейший созыв Учредительного собрания с участием коренных жителей.
Новый век Якутия встречала на подъеме духовных сил и экономического роста. Она переставала быть просто колонией, сырьевым придатком империи. Еще в екатерининское время здесь сеяли семена просвещения такие передовые люди Якутии, как Софрон Сыранов, Алексей Аржаков, управитель Степной думы Иван Мигалкин. В более близкие времена конца XIX – начала XX века их дело продолжили Егор Николаев, Василий Никифоров-Кюлюмнюр, Алексей Кулаковский-Ексекюлях и их сподвижники. Якутск больше не хотел считаться заштатным провинциальным городком, здесь зарождалась смелая для тех времен и для такой провинции общественно-политическая мысль. В Якутии открывались школы, в столице края появились реальное и женское училища и одно из главных достижений тех лет – учительская семинария. В стенах учебных заведений, бушевали споры, затевались планы по переустройству области и страны.
…В дальнем якутском аласе[16] рос тогда мальчик, которому было суждено стать политиком, одним из основателей национальной государственности и величайшим поэтом народа саха. Его нарекли именем Платон древнегреческого происхождения – благодаря православной вере это имя стало для якутов одним из самых почитаемых. Судьба как будто подсказала не простое имя, а то, которое, как оказалось, предрекло его жизнь со всеми взлетами и падениями.
Наступит 1917 год – рубеж, время перелома. Настанут годы войны и красного террора, годы, прозванные Иваном Буниным «окаянными днями». Якутской области, народу саха в годы перелома нужен был человек, который мог дать новое дыхание, новое прочтение всему, что было создано и сохранено народом на протяжении веков. И такой человек нашелся – тот самый подросший мальчик по имени Платон, впервые сверкнувший на общественной сцене в революционные мартовские дни 1917-го, взращенный всей жизнью того периода. Ему выпала судьба объединить идеи самоуправления и национального возрождения, примирить исконные убеждения якутской элиты с новым революционным временем и идеями коммунизма. Не все получилось так, как он хотел, но все дало свои всходы, сохранив традиционную ментальность народа саха и дополнив ее идеями развития и возрождения.
Романтическая натура Платона Ойунского еще в юности втянула его в водоворот «века-волкодава», начавшегося с лозунгов свободы, равенства и мира. Он стал тем человеком, который претворил в жизнь давнюю мечту лучших представителей якутского народа о самоуправлении и государственности. Об этом и пойдет наш рассказ в этой книге. Фантастический взлет в политике и творчестве обернулся для Ойунского личной трагедией. В 28 лет он председатель ревкома Якутии, в 29 – председатель Совнаркома, в 30 – председатель Центрального исполнительного комитета, в 36 – нарком просвещения, в 42 года – основатель научно-исследовательского института языка и культуры, его первый директор. А в 46 лет его сердце навсегда перестало биться в Якутской тюрьме.
Но прежде чем приступить к изложению нашего рассказа, вспомним еще раз горькие слова Ойунского, его прозрение. Строки, которые я выбрал для эпиграфа, поэт написал в 1925 году, и эти слова оказались пророческими. Да, он не робел перед судьбой, шел навстречу всем невзгодам, не раз сталкивался со смертельной опасностью. Но палачи поджидали его на другой стороне баррикад… До сих пор хранит Мать-земля тайну его захоронения. «И я умру – мой прах исчезнет, травой мой холмик порастет…»
Он закончил свою жизнь трагически, как повторялось не раз в жизненном бытии многих величайших творцов Слова. Его гибель стала трагедией для его народа, нескончаемой болью. Мысль предать земле его останки, похоронить соответственно подобающей ему роли в истории преследует поколения якутов с самого момента его кончины в изоляторе тюремной больницы. В который раз, вооружившись верой и надеждой, проходят его земляки по той земле, где, по преданию, покоится его прах, надеясь раскрыть тайну его последнего пути на земле. Возможно, нынче настал тот самый долгожданный день, месяц, год, век, когда народ исполнит свой долг перед его памятью…
* * *
Париж. Штаб-квартира ЮНЕСКО. Холодный дождливый день декабря 1993 года. Якутская речь казалась в этом дивном городе, культурной столице Европы и мира, не чужой, но все же непривычной и необычной. Париж, возможно, впервые слышал поэтический язык олонхо в своих древних стенах. В тот день воплотилось наяву пожелание-предсказание самого Платона Ойунского. Казалось, что мир услышал его слова о той задаче, которую он, студент словесно-исторического отдела Томского учительского института, еще в 1917 году поставил перед собой и своими товарищами: «Якут исключительно был поэт, но за отсутствием богатой письменности (родной) не усовершенствовал свой дар. Наша будущность в совершенном развитии этой поэзии и нашего на вид бедного и тяжелого языка, но языка весьма гибкого, образного. Наша история в том, чтобы свою литературу сделать общечеловеческим достоянием»[17].
Париж открывал для себя Якутию через творчество ее великого поэта и писателя, политика и государственного деятеля, ученого и организатора науки – Платона Алексеевича Ойунского.
«Мы искренне признательны ЮНЕСКО за то, что столетие со дня рождения Платона Алексеевича Ойунского включено в перечень официальных событий, отмечаемых этой организацией», – сказал Михаил Николаев, Первый Президент Республики Саха (Якутия). Он подчеркнул: «Платон Алексеевич Ойунский был голосом и гордостью народа саха. Разносторонний самобытный талант, глубокое знание жизни народа позволили Ойунскому в свое время верно подметить наиболее значимые проблемы исторических судеб родного народа. Он был человеком большой души, доброго сердца, дальновидного ума. В своей содержательной, богатой крупными общественными событиями жизни, в бурной политической борьбе за свой идеал на его долю досталось немало радостей и огорчений. Но он твердо верил, что будущее за его родным народом»[18].
Какого уровня было это событие – регионального, российского или международного? Трудно это оценить, но было ясно, что Якутия на новом витке своего исторического развития утверждалась, входила в мировое культурное пространство через творчество своего выдающегося поэта и писателя. И, что еще важнее – через отца-основателя, первого руководителя автономной республики, возникшей в далеком северном крае. Это было послание доброй воли ЮНЕСКО от имени мирового культурного сообщества к последующим поколениям народа саха и всем якутянам как к равным среди великих культур и цивилизаций.
Празднование в штаб-квартире ЮНЕСКО столетнего юбилея П. Ойунского стало возможным благодаря наступившим новым временам. В 1991 году в Якутии был создан комитет ЮНЕСКО, второй в регионах РСФСР, благодаря поддержке Розы Отунбаевой, тогдашнего председателя Комиссии СССР по делам ЮНЕСКО, Чрезвычайного и Полномочного Посла СССР. Во время ее приезда на организационное заседании Комитета ЮНЕСКО я записал с ней интервью, в котором она сказала: «Как я знаю, олонхо – древнее космогоническое, философское представление народа о мире. Настал час представления его в полном объеме и богатстве всему миру. В этом смысле можно говорить о каком-то возрождении, ренессансе культуры. И когда вы со всем этим Монбланом идей стремительно врываетесь в общечеловеческий цивилизационный водоворот, чтобы рассказать, поведать миру об этом, с тем чтобы вложить свой вклад в многоцветную культурную ткань мира, – это, безусловно, абсолютно новое, свежее явление»[19].
Получилось так, как и предполагала Роза Исаковна. Олонхо в 2005 году было внесено во Всемирный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В этом есть, без всякого сомнения, и заслуга Платона Ойунского. Ведь он первым из профессиональных писателей перенес на бумагу великое творение народа – олонхо. Олонхо Ойунского «Ньургун Боотур Стремительный» в 1968–1971 годах был переведен на русский язык известным поэтом, переводчиком эпосов народов мира Владимиром Державиным и опубликован в 1975 году. Многие исследователи-эпосоведы познакомились с олонхо именно через прочтение русского перевода произведения Платона Ойунского.
Как и у каждого народа, у народа саха, освоившего огромную территорию северо-востока Азиатского континента, есть столпы, люди, которые стали выразителями его чаяний, мировоззрения, дум и мечтаний. Платон Ойунский – одна из самых блестящих и трагических фигур не только в якутской литературе, но и во всей истории Якутии, человек, пользовавшийся и при жизни, и во все последующие годы неизменной любовью и поклонением народа. До сих пор на национальном празднике ысыах запевала кругового танца осуохай начинает свою импровизацию со слов «Ойуунускай убайбыт саҕаттан», что в смысловом переводе означает «со времен досточтимого нашего Ойунского».
Если сделать экскурс в историю, то мы найдем немало свидетельств того, что якутская интеллигенция, разночинная, из богатых или бедных семей, всегда стремилась к самоуправлению, к расширению прав области. Платон Ойунский со своими соратниками стал основателем государственности Якутии в форме автономной республики в составе РСФСР. А его вдохновенное слово стало дошедшим до масс призывом в поддержку новой революционной власти, обещавшей якутам национальную государственность и развитие. Для Якутии его творчество было сродни творчеству Максима Горького и Владимира Маяковского для России. Его слово вдохновляло и убеждало, его слову, убедительному и яркому, люди верили, и это было решающим в первые дни установления советской власти. Он сделал едва ли не больше всех для того, чтобы «идеи счастливого будущего» нашли своих последователей в Якутии. Но он это делал ради якутской мечты – создать государственность для того, чтобы развивать культуру и искусство, науку и литературу на родном языке. Вывести народ из нищеты и бесправия, указать ему путь к расцвету.
Ойунский – революционер не только по своему общественному мировоззрению, но и в поэтическом слове, яркий поэт-новатор. В то же время он совмещал в творчестве современность и идущие из глубин подсознания образы мира предков и традиционные национальные мотивы. Языческими символами, библейскими сюжетами были увлечены писатели и поэты, философы и мыслители России в годы расцвета модернизма и авангарда, увлечения Ницше и Гамсуном. А якуты искали в них отзвуки своего национального своеобразия, идентичности, которая могла стать основой дальнейшего развития. Платон Ойунский реализовал это стремление в своем творчестве, и сегодня он признанный основатель философской и религиозной драмы в якутской литературе.
Главная его сила в том, что у него не было противоречия в двух его ипостасях – государственника и поэта, ученого, мыслителя. Он был естествен в обоих этих обликах, во всех своих словах и делах. Он способствовал утверждению норм литературного якутского языка, обогатил литературу новыми формами и метафорами, идеями и смыслами. Должно быть, якутский язык настолько богат, что он смог совместить эти грани в своем творчестве, не упрощая и не усложняя язык в поисках отображения новых явлений, а находя ту естественную золотую середину, что позволяет показать всем нужные смыслы.
При жизни его сравнивали с Прометеем, боготворили как трибуна, восхищались им и любили незабвенно. Он был олицетворением новой власти и будущей прекрасной жизни в коммунистической стране. Но он оставался тем самым скромным мальчишкой, который с восхищением вслушивался в слова олонхосута, воочию видел образы богатырей и картины дальних миров. Закрыв на мгновение глаза, он воображал себя олонхосутом, как известные исполнители из Жулейского наслега[20] Табаахырап (Иван Николаевич Винокуров), Куохайаан (Степан Андреевич Саввин), Кылачыысап (Алексей Николаевич Харлампьев), имена которых он с уважением вспомнит в «Ньургуне Боотуре Стремительном».
Возможно, видя его интерес к древней вере и словотворению, кто-то из земляков предрекал ему будущее великого шамана или олонхосута, ведь он происходил из рода уважаемых, почитаемых народом шаманов-ойунов. В жизни все сложилось иначе. Трудно сегодня сказать, что было ему ближе: стать выразителем народной мудрости или создавать новую власть, созидать республику. Это были две стороны одной медали: основатель государственности, революционер не только в содержании стихов, но и в их форме, а с другой стороны, трагический поэт, переживший крушение своих идеалов и веры, человек, предвидевший страшные раны века, которые не обошли его стороной, философ и мыслитель, описавший все боли и беды новой эпохи. Во все периоды своего жизненного пути он всегда был полон новых замыслов и мечтаний, всегда пребывал во власти обуревавших его идей. Его поэзия сильна своим созвучием веку, в котором он жил, который он переживал как личность, как творец.
Ойунский – бесспорно выдающийся писатель и поэт. В литературе он создал свой, ни на что не похожий мир: реалистичный, с революционным накалом и при этом мифологизированный – мир олонхо и древних преданий, гармонично сочетающихся с глобальными проблемами мироустройства, политики и реалий 1920–1930-х годов. Он революционер не только потому, что использовал революционную риторику, но и в том смысле, что стал зачинателем новых литературных форм для якутской художественной словесности.
Самый идеальный перевод не может передать полноты ощущений материнского языка произведения. Мы можем говорить только об адекватности и понимании сути, смысла произведения[21]. Строки Ойунского на родном языке звучат совершенно по-другому, его язык – это «иччилээх, хомуһуннаах тыл», что значит «вещие, проникновенные слова», имеющие «магические, колдовские, волшебные силы или чары». В чем же была сила его слова?
Очень интересное замечание по этому поводу сделал в том же Париже, на конференции, известный исследователь Борис Шишло: «Я хочу говорить об этой специфической силе якутского Слова, пытаясь внести мой скромный вклад в понимание сути якутской поэзии. Для этого я хочу прежде всего обратить внимание на несколько специфических якутских выражений, найденных в конце XIX века известным лингвистом Пекарским. Например, «сангарбыта – сата былыт буолла», что можно приблизительно перевести как «речь его стала как грозное облако Сата», или «сангатын сататын», что переводится «каков яд (буквально Сата) его речи», или еще «Аба-Сата», буквально «большая Сата», что Пекарский переводит как «сарказм, яд речи». Эти выражения трудно перевести и понять. И, чтобы раскрыть их глубокий смысл, необходимо уловить суть слова «Сата», которое является семантическим ключом к этим вербальным формулам»[22].
Затем Борис Петрович говорит о том, что для раскрытия тайны этого слова надо обратиться к олонхо Ойунского «Ньургун Боотур Стремительный». В олонхо автор, по выражению Шишло, «реконструирует во всех деталях то, что можно назвать мифическим реализмом прародины якутов». Он описывает сотворение мира, когда в глубине долины преобразующегося хаоса находится пылающий красным цветом волшебный камень Сата. Обладатели этого камня имеют власть над миром, они всесильны, могут менять не только погоду, но и порядок вещей в природе. Б. Шишло приходит к выводу, что этот магический камень роднит якутское олонхо с другими тюрко-монгольскими эпосами.
Талант Платона Ойунского был сродни этому камню Сата, и он бросил его в жизненный водоворот, словно богатырь из олонхо, чтобы изменить свою родину, повернуть в лучшую сторону жизнь простого народа.
Ойунский вошел в историю Якутии как выдающийся писатель и поэт, как человек ренессансного типа, стоявший у истоков не только государственности автономной республики, но и научных исследований и культурного строительства. Его творческий и жизненный путь можно условно разделить на четыре этапа:
1. «Время судьбы» (до 1917 года) – становление и формирование его взглядов и жизненных принципов.
2. «Время манифестов» (1917–1926) – революционная пора, новая поэзия и постижение фольклорных традиций, государственная деятельность.
3. «Время постижения» (1927–1934) – переосмысление, творческие открытия, научно-исследовательская и организаторская деятельность в сфере просвещения, науки и культуры, отстаивание творческого, бережного отношения к фольклору как основе национальной культуры, поиски тайны олонхо.
4. «Время прощания» (1935–1938) – понимание обреченности, неминуемости нависшей над ним и его соратниками беды, сомнения в правильности избранного пути, раздумья о природе власти и государства.
Платон Ойунский был продолжателем, преемником идей таких первооткрывателей в духовной сфере, как Алексей Елисеевич Кулаковский-Ексекюлях, Василий Васильевич Никифоров-Кюлюмнюр, Анемподист Иванович Софронов-Алампа, Николай Неустроев. В свою очередь, его линию в культуре и литературе продолжают наши современники – режиссер Андрей Борисов, писатели и поэты Николай Лугинов, Василий Харысхал, Наталья Харлампьева, Елена Куорсуннаах и др.
Нельзя рассматривать историю якутской литературы в отрыве от истории русской литературы. Она доходила до Якутии не только отголосками творческих манифестов и споров, но и непосредственно через переводы произведений классиков русской литературы Александра Пушкина, Николая Гоголя, Льва Толстого, Максима Горького и др. Влияние оказали также Николай Чернышевский и Владимир Короленко, находившиеся в ссылке соответственно в городе Вилюйске в 1872–1883 годах и Амгинской слободе в 1881–1883 годах. Короленко вывел образы объякутившихся русских крестьян в своих рассказах, самый известный из которых – «Сон Макара». Все эти обстоятельства не могли не влиять на формирование взглядов якутской интеллигенции. Первые якутские профессиональные писатели видели себя, свое творчество в контексте русской литературы, русской культуры. Якутия вошла в русскую культурную сферу начиная с деятельности православных миссионеров, переводивших церковные тексты на якутский язык, ведущих службу на этом языке.
Якутия, ее языковое и фольклорное богатство раскрывались для российского читателя начиная с XIX века, отраженного в творчестве писателей-декабристов, исследователей-этнографов. Одно из самых известных произведений Александра Бестужева-Марлинского, отбывавшего ссылку в Якутске в 1827–1829 годах, баллада «Саатырь», было написано там же в 1828 году:
Не ветер вздыхает в ущелье горы,
Не камень слезится росою –
То плачет якут до далекой поры,
Склонясь над женой молодою.
Уж пятую зорю томится она,
Любви и веселья подруга,
Без капли воды, без целебного сна
На жаркой постели недуга;
С румянцем ланит луч надежды погас,
Как ворон над нею – погибели час…
Наутро, где Лена меж башнями гор
Течет под завесой туманов
И ветер, будя истлевающий бор,
Качает гробами шаманов,
При крике родных Саатырь принесли
В красивой колоде кедровой…
«Северная пчела» 25 мая 1831 года публикует первый в истории российской печати репортаж с якутского национального праздника ысыах под заголовком «Исых», принадлежащий перу того же Александра Бестужева-Марлинского. Отрывок воссоздает сцену открытия праздника: «Три шамана приближаются к огню; одежда их уже описана отлично Бардом нашим; и мне нечего прибавлять; только вместо рогатых шапок волосы их падают по плечам. Они умоляют духов не вредить их стадам, не насылать падежа и болезней. Голос их то пронзителен, то ропотен – бубны звучат повременно, и каждый из них, черпнув ложкою кумыса из огромных деревянных кубков (аах) [так написано в оригинале статьи, правильно – аях], брызжет им на огонь – это умилостивительное возлияние. Старшины подводят белую кобылицу, и старший шаман, возложа руку на ея голову, просит Небесного Бога благословить размножение стад, изобилие трав и здравость сего кумыса. Он вырывает несколько волос из гривы и бросает в огонь: с этой минуты благословенная кобылица становится неприкосновенною. Ни седло, ни удило не будет ей знакомо: никогда ножницы не уронят с нея ни волоска. Тут началось подливанье: в больших и малых чашах разносят гостям кумыс, между тем как умный расскащик говорит похвалу ему и громкие клики одобрения летят со всех сторон: оратор неистощим». В завершение автор заключает: «На это приятно взглянуть».
Судя по всему, Александр Александрович всерьез пытался понять культуру якутов и проникнуться ею. Известно, что это произведение Бестужева читал А.С. Пушкин.
А теперь перенесемся в ХХ век. От Бестужева до строк Евгения Евтушенко, сочиненных в 1967 году, пройдет немало лет. «Алмазы и слезы» – так назовет свои стихи Евгений Александрович, очарованный Якутией:
На земле драгоценной и скудной
я стою, покорителей внук,
где замерзшие слезы якутов
превратились в алмазы от мук.
Не добытчиком, не атаманом
я спустился к Олёкме-реке,
голубую пушнину туманов
тяжко взвешивая на руке. ‹…›
Я люблю, как старух наших русских,
луноликих якутских старух,
где лишь краешком в прорезях узких
брезжит сдержанной мудрости дух.
Я люблю чистоту и печальность
чуть расплющенных лиц якутят,
будто к окнам носами прижались
и на елку чужую глядят.
‹…›
Инородцы?! Но разве рожали
по-иному якутов на свет?
По-иному якуты рыдали?
Слезы их – инородный предмет?
Жили, правда, безводочно, дико,
без стреляющей палки, креста,
ну а все-таки добро и тихо,
а культура и есть доброта.
Люди – вот что алмазная россыпь.
Инородец – лишь тот человек,
кто посмел процедить: «Инородец!»
или бросил глумливо: «Чучмек!»
И без всяческих клятв громогласных
говорю я, не любящий слов:
пусть здесь даже не будет алмазов,
но лишь только бы не было слез.
Якутская словесность явилась читающей общественности России с середины XIX века с публикацией «Воспоминаний» Афанасия Уваровского[23] и олонхо в составе исследования академика Отто Бётлингка «О языке якутов»[24]. Но в своем истинном значении оно возникло в 1900 году, когда Алексей Елисеевич Кулаковский (Ексекюлях Елексей) написал свое первое стихотворение «Байанай алгыһа».
Имея такую богатейшую, полную глубокого философского содержания первооснову, как устное народное творчество, якутская литература развивалась по нарастающей. Большую роль сыграло появление первых газет и журналов на якутском языке в 1907–1912 годах. А в 1913 году первый якутский драматург В. Никифоров-Кюлюмнюр прочитал свою пьесу «Манчары» в оплоте Серебряного века – знаменитом петербургском арт-кафе «Бродячая собака». Кюлюмнюр показал образ Манчары как романтического героя, включая его в ряд «благородных разбойников» мировой литературы: Робин Гуда, Роб Роя и других. «Манчары» – первый пример якутской «массовой культуры» своего времени, конца XIX – начала XX века.
Время не стояло, с годами словно ускоряясь, неслось к концу ли, к началу ли. Неумолимо приближался 1917 год, перевернувший жизнь империи и ее окраины Якутии. Платон Ойунский становится главным поэтом революционной эпохи, оставаясь носителем национальной поэзии, этнического самосознания. Время вместило в свой столетний пробег его возвышение как поэта и революционера, основателя автономной республики, объявление его «врагом народа», «троцкистом», «шпионом», смерть в застенках НКВД, сжигание на костре его книг, многолетнее замалчивание и реабилитацию-воскресение… Потом его имя за семь лет до окончания этого «века-волкодава» почтут в Париже, в ЮНЕСКО, появится и планета Ойунский на звездном небосклоне…
В 2003 году, в год 110-летия П. Ойунского, комиссия Международного астрономического союза по номенклатуре малых тел утвердила присвоение его имени малой планете диаметром пять километров, зарегистрированной в каталоге под номером 16407 и являющейся частью главного пояса астероидов. Планета была открыта в Крымской астрофизической обсерватории в 1985 году крымскими астрономами, доктором физико-математических наук Николаем Черных и его супругой Людмилой[25].
Трагизм не только судьбы самого Платона Ойунского, но и всего его мировосприятия сквозит в его строках:
Горем мир наш гложется,
Горе в мире множится…
Счастья в мире не найдешь,
Счастье – сказка, счастье – ложь…[26]
Слова сомнения о том, можно ли быть счастливым в этом мире, где «черство и глухо небо», он вложит в уста своего любимого героя – Красного Шамана.
И не зря скажет его молодой друг и сподвижник, народный писатель Якутии Дмитрий Кононович Сивцев-Суорун Омоллон: «Вся его жизнь – до конца не спетая поэма, не оконченная драма и не полностью раскрытая трагедия».
* * *
Урожденный Платон Алексеевич Слепцов вошел в историю под двумя фамилиями: своей родной и вновь приобретенной фамилией Ойунский. Фамилия Ойунский происходит от слов «ойуун» (шаман) и «уус» (род). То есть «из рода шаманов». Он начал использовать псевдоним «Ойунский», еще обучаясь в Якутском четырехклассном училище.
Так Ойунский – это только псевдоним или фамилия? Ответ требует ясности.
В 1920-е годы Платон Алексеевич принял очень важное для себя решение. Свидетельство об этом, опубликованное в тогдашней прессе, нашел писатель Николай Винокуров-Урсун, написавший статью «Ойуунускай – фамилия или псевдоним?». Газета «Ленский коммунар» в номере от 18 декабря 1920 года опубликовала небольшое извещение «О перемене фамилии», в котором сообщается следующее: «Протокол № 1. 1920 г. Ноября 29 дня. В якутский местный отдел ЗАГСа поступило от гражданина, завотсовуправ Якутгубревкома Платона Алексеевича Слепцова заявление о перемене им своей фамилии. На основании означенного заявления, в силу которой П.А. Слепцов впредь именуется фамилией Ойунский с соблюдением ст. 5-го декрета Совнаркома «О правах граждан изменять свои фамилии и прозвища». Настоящий протокол, согласно ст. 3-й вышеуказанного декрета, публикуется во всеобщее сведение. Завотзагса В. Румянцев».
С этого момента Платон Алексеевич Слепцов официально становится Ойунским. За многие годы мы привыкли к его звучной фамилии, но порой ее пишут неправильно, как псевдоним – Слепцов-Ойунский. Следует иметь в виду, что до 1925 года он продолжал и в некоторых документах и работах подписываться как Слепцов или Слепцов-Ойунский, а с 1925 года – только как Ойунский.
В настоящей книге в описании событий до 1920 года употребляется фамилия Слепцов, а с 1920 года используется Ойунский, за исключением тех цитат из документов или других публикаций, в которых он фигурировал как Слепцов или Слепцов-Ойунский (иногда фамилия пишется как Ойюнский). Все цитаты из художественных произведений подписаны вошедшим в историю литературы именем Платон Ойунский.
Почему же он решил изменить фамилию? Известно, что многие большевики меняли свои фамилии на подпольные клички. Но почему именно Ойунский – однозначного ответа нет. Может быть, это был протест против принятого весной 1920 года решения губревкома о том, что «на территории Якутской области объявляется беспощадная борьба с шаманством, профессиональными шаманами и шаманской спекуляцией». Представителям советской власти – сельским ревкомам и милиции – предписывалось «строго преследовать всех шаманов, отбирать у них шаманские костюмы, бубны и разные символические деревянные изображения – эмэгэты, а также налагать штрафы за камлание, полученное шаманами вознаграждение в двойном размере. Все железные и медные символические принадлежности шаманских костюмов употреблять на нужды общества, а бубны, былайяхи и деревянные изображения сжигать на местах».
Что удивительно, в защиту шаманов выступил тогдашний член Сиббюро РКП(б) Емельян Ярославский, будущий главный идеолог «воинствующих безбожников». В газете «Советская Сибирь» от 19 ноября 1920 года на первой странице появилась его статья «Чем провинились шаманы?». Автор, прямо называя виновника – «Якутский отдел управления губревкома», – пишет: «Ни с какой стороны нельзя назвать это решение правильным в Советском государстве. Я лично очень близко знаком с так называемой «черной верой» – шаманством, с которым беспощадную борьбу вело царское правительство как с «язычеством». Но что, собственно, такого особенного в этой «черной вере», что ее надо преследовать штрафами и арестами?.. Это распоряжение должно быть отменено, так как оно противоречит декрету об отделении церкви от государства. Что же, скажут якутские товарищи, значит, не надо бороться с шаманством, с этим грубейшим суеверием, опутыванием умы забитой, темной якутской массы? Конечно, надо бороться, но не теми средствами, какими боролись русские попы». Дальше Ярославский называет правильные средства борьбы – культурно-просветительская работа, распространение точного знания и «полное экономическое раскрепощение человека». Хотя отметим, что к шаманам обращались чаще всего при болезнях и увечьях, то есть из-за недостатка или отсутствия медицинской помощи.
Именно тогда Ойунский принял смелое решение – взять новую фамилию, тем самым констатируя свою принадлежность к шаманскому роду. С другой стороны, сам он не оставил прямых свидетельств о причинах принятия своего псевдонима-фамилии. Еще одна его тайна…
2
Пер. И. Дремова.
3
Торуом (як.) – ласкательное обращение П. Ойунского к супруге А.Н. Борисовой-Ойунской, производное от «друг», «дружочек». Здесь и далее – примечания автора.
4
Борисова-Ойунская А.Н. Наш отец. – В кн.: Ойунский П. Стихотворения и поэмы / Сост. Н. Сивцевой. М., 1993. С. 248.
5
1581 год – начало похода Ермака, 1740 год – основание Петропавловского острога, ставшего позже городом Петропавловск-Камчатский.
6
См. о нем: Коняев Н.М. Алексей Кулаковский. М.: Молодая гвардия, 2011 (серия «Жизнь замечательных людей»).
7
Нуча – якутское название русских.
8
Кулаковский А.Е. Якутской интеллигенции. Новосибирск, 2012. С. 64–65. Здесь следует подчеркнуть, что первым этот труд в 1937 году в научный оборот ввел П. Ойунский в своей неопубликованной статье «Из царства колониального рабства в царство свободы». Полный текст труда Кулаковского был опубликован в 1990-х годах.
9
Г.П. Башарин, Ф.Г. Софронов, В.Н. Иванов, М.А. Тырылгин и др.
10
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: Т. 82. СПб.,1904. С. 634.
11
Врангель Ф.П. Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому океану, совершенные в 1820, 21, 22, 23 и 24 годах. СПб., 1841. С. 171.
12
Хомяков А.С. Записки о всемирной истории. Т. 1. М., 1871. С. 107.
13
Эткинд А.М. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России / Авториз. пер. с англ. В. Макарова. М., 2013. С. 183.
14
Дмитриева И.А. Православная Якутия [Электронный ресурс]: http:// eparhia.ya1.ru/index.php.
15
Серебренников И. «Дни свободы» на севере Сибири // Сибирские вопросы. 1908. № 8. С. 32.
16
Алас (як.) – «поляна», плоскодонная котловина среди тайги, в которой часто располагались поселения якутов.
17
Из письма П. Слепцова (Ойунского) из г. Томска своим товарищам и единомышленникам, написанного 27 декабря 1917 года. Все цитаты из писем П. Ойунского 1917–1918 годов здесь и далее приводятся по кн.: Дорогой Максим, у нас есть будущее, счастливое и мирное… / Сост. В.Н. Протодьяконов. Якутск, 2013.
18
Из доклада М.Е. Николаева, Президента Республики Саха (Якутия), на научно-практической конференции, посвященной памяти и творчеству якутского поэта в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже 6 декабря 1993 года.
19
Сидоров О. Роза Отунбаева: «Успеть сделать предначертанное…» // Советы Якутии. 1991. 18 апреля.
20
Наслег – село или поселок у якутов.
21
Произведения Ойунского переводили в разные годы Олег Шестинский, Владимир Державин, якутские авторы Альбина Борисова, Егор Сидоров, Владислав Доллонов и др. Иван Иннокентьев переложил рассказы «Александр Македонский» и «Соломон Мудрый» в пьесу на русском языке, поставленную на сцене Русского театра Якутии. В данную книгу включены фрагменты из произведений Ойунского, опубликованных в кн.: Ойунский П. Стихотворения и поэмы / Пер. с як.; сост. Н. Сивцевой. М., 1993; Ойунский П. Стихотворения / Пер. с як.; сост. И. В. Пухова; вступ. ст. С.П. Данилова, Г.Г. Окорокова. Л., 1978 (Библиотека поэта. Большая серия); Ойунский П. Кудангса Великий. Александр Македонский / Пер. А. Борисовой. Якутск, 2002.
22
Шишло Б. О силе якутского слова (доклад на научно-практической конференции в Париже 6 декабря 1993 г.). – В кн.: Ойунская С.П. Светлое имя отца: Поэмы, эссе, статьи, воспоминания. Якутск, 1999. С. 38.
23
Уваровский Афанасий Яковлевич (1800–1861) – работал в Якутском областном управлении, торговой конторе, земском суде. Родившийся в смешанном браке, он свободно владел русским и якутским языками, был хорошо знаком с якутским фольклором. В 1839–1852 годах жил в Санкт-Петербурге, где познакомился с О. Бётлингком. «Воспоминания» были переведены на французский язык и в 1861 году опубликованы в парижском «Новом журнале путешествий».
24
Академиком О. Бётлингком был разработан первый якутский алфавит на основе кириллицы, так называемое «письмо Бётлингка». Посредством алфавита Бётлингка изданы олонхо «Эрэйдээх-Буруйдаах Эр-Соготох», «Ахтыылар» А. Уваровского, «Образцы народной литературы якутов», «Словарь якутского языка» Э.К. Пекарского, первые газеты и журналы на якутском языке «Саха дойдута», «Саха олого», «Саха сангата» и др.
25
Именем якутского писателя назвали планету // ИА REGNUM. 23 октября 2003 г. [Электронный ресурс] / URL: http://www.regnum.ru/ news/171276.html.
26
Пер. В. Корчагина.