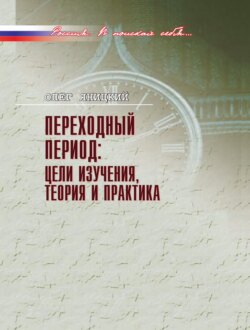Читать книгу Переходный период: цели изучения, теория и практика - Олег Яницкий - Страница 17
Глава 3
Теоретические характеристики переходного периода
3.3. Концепция «переходного периода» З. Баумана
ОглавлениеКак было отмечено выше, главный вызов современной эпохи – это трансформация способа производства, то есть переход от НТР-2 и НТР-3 к НТР-4, основанной на информационно-коммуникационных технологиях. Переходный период, или период «между» – важная теоретическая категория, указывающая на изменение всех других систем общества в целом и параметров мегаполисов как его основных «опорных» пунктов. При этом любой переходный период чреват новыми рисками и опасностями, так как старые правила игры уже не работают, а новые еще только формируются.
Бауман полагает, что сегодня быстро формируется поколение отверженных (outcast generation), то есть фактически изгнанных из общества ближайшего будущего. Такие люди есть в любом обществе, но, говорит Бауман, велика вероятность, что такая «селекция» скоро охватит все слои общества [Bauman, 2017: 3].
Всякий переход из поколения в поколение, так или иначе, есть результат травмирующих событий, обычно связанных с перерывом постепенности идущих перемен, а также – с необходимостью весьма болезненных усилий по адаптации к новым условиям. Особенно травмирующим является факт невозможности удовлетворения растущих ожиданий молодого поколения, который Бауман образно называет долгим и темным путем в туннеле неудовлетворенных надежд. Бауман подчеркивает, что оно не было готово к пришествию неприветливого и негостеприимного нового мира деградации, обесценивания уже обретенных заслуг и достоинства, мира «закрытых дверей» и постоянной безработицы [Bauman, 2017: 4–5].
Впервые после Второй мировой войны, продолжает Бауман, сегодня целый класс молодых людей, получивших высшее образование, с высокой долей вероятности может получить только временную и плохо оплачиваемую работу, а характер требуемых знаний и труда будет много ниже того, что он получил в университете. Бауман подчеркивает, что «сегодня капиталистическое общество ориентировано, в первую очередь, на защиту и сохранение существующих привилегий и только в отдаленном будущем – на извлечение остальных из их депрессивного состояния». И что же тогда, спрашивает Бауман? «Возможно ли согласие между поколениями? Или же мы – накануне новой войны между поколениями?» [Bauman, 2017: 6–7].
Транзит от общества производителей благ к обществу их потребителей или от общества устойчивого модерна к обществу текучего постмодерна заслуживает особого внимания. Мы находимся в переходном периоде от устойчивого и предсказуемого общественного порядка ХХ в. к хрупкому и неустойчивому XXI в., в котором каждый ощущает себя как нечто временное и нестабильное, подчеркивает Бауман.
Он фокусирует наше внимание на проблеме политического баланса между левыми и правыми силами, утверждая, что социальная демократия утеряла свой конституирующий контрбаланс, то есть значение своих крепостей и крепостных валов (social fortresses and ramparts). И поэтому социальный порядок теперь будет «рассеян» в виде агрегата эгоистичных и на себя центрированных индивидов (self-concerned and self-centered individuals), конкурирующих за работу и продвижение по службе, мало или совсем не осознающих общность своей судьбы и еще меньше – в необходимости солидарных действий. Соответственно, солидарность была явлением, внутренне присущим обществу производителей, сегодня ушедшего в небытие. …Агенты этого «нового бравого мира» пользуются дурной славой толпы, осаждающей магазины в одно и то же время, направляемой невидимой рукой рынка. Как налогоплательщики они не имеют общих интересов. Поэтому и нет разницы между «правыми» и «левыми» [Bauman, 2017: 9].
Бауман, будучи социологом, а не технократом, специально не занимался проблемой перехода от НТР-3 к НТР-4, хотя цитированные выше мысли как раз свидетельствуют о его интересе к ней. Однако Бауман подчеркивал, что ценность информации возрастает и снижается не столько из-за качества контента, но и от того, кто был автором данного сообщения или послания. Однако в нынешнем обществе вся или почти вся коммуникация основана на искаженной информации. Чтобы не быть таковой, коммуникация требует действительного равенства ее участников, равенства не за круглым столом, но в реальной, офлайн жизни ее участников. И заключает, «реализация этого условия потребовала бы ни больше ни меньше как полного равенства общающихся сторон», но также и ответственности, причем не «плавающей», то есть изменяющейся, а реальной и всеобщей, и не в онлайн, а в офлайн социальном пространстве [Bauman, 2017: 26].
Далее Бауман анализирует два ключевых вопроса перехода от модерна к постмодерну. Речь идет о взаимоотношениях локальных и глобальных агентов и между принципами управления в эти два исторических периода. По мнению Баумана, в эпоху модерна стратегия менеджмента (управления персоналом) была сосредоточена на максимальном регулировании поведения подчиненных с тем, чтобы исключить всевозможные воздействия на него со стороны. Поведение работников измерялось и оценивалось по единственному критерию «работа должна быть выполнена согласно распоряжениям менеджера». В фазе «текучей модернити» стратегия менеджмента стала иной: ответственность за результаты работы была целиком переложена на плечи исполнителей. Соответственно ответственность менеджеров резко сократилась. По мысли Баумана, произошла индивидуализация отношения «руководитель – исполнитель» [Bauman, 2017: 114–116].
Обобщая происходящие перемены, Бауман трактует понятие «переходного периода» как промежуточное состояние социальной системы, когда старые методы управления (the old ways and means of getting things done) уже плохо работают, а новые в лучшем случае находятся в стадии проектирования или эксперимента. Называя настоящий период переходным, мы говорим о периоде времени неизвестной протяженности, когда эта система находится в состоянии максимальной неопределенности, когда темпо-ритмы самого процесса перехода также неизвестны.
Кроме того, Бауман отмечал, что сложившаяся ранее «морфология» изучаемой системы, то есть структуры и характера человеческого общежития, также нарушается. Старые социальные структуры и связи распадаются, их элементы становятся частью новых социальных структур без должной апробации и т. д. Все это признаки слабеющей системы [Bauman, 2017: 119].
Это означает, что эпоха постмодерна есть период перманентной перестройки больших комплексных систем, которые становятся все менее стабильными и более рискованными. Так как главной их функцией было служить катапультами и управляющими структурами для социального действия, эта ситуация неопределенности есть главный вопрос концепции переходного периода и возможно даже «метавопрос» нашей переходной эры.
Далее Бауман переходит к актуальному для нас вопросу о месте и роли мегаполисов в процессах глобализации и трансформации национальных государств в частности. Он полагает, что этот мезоуровень социальной интеграции будет оптимальным для «примирения» управления сверху – вниз с самоорганизацией и самоуправлением на местах. Понятно, что речь идет об уровне политики в отношении семьи и индивида.
Однако в этом пункте Бауман противоречит сам себе, говоря чуть ниже, что источником современных противоречий и конфликтов является процесс «диаспоризации» мира [Bauman, 2017: 121]. Этот процесс действительно идет, но именно он является одной из причин разрушения индивидуальных планов семьи как социального института. Напомню, что я также не согласен с Бауманом, который, ссылаясь на работу Б. Барбера (‘Dysfunctional Nations, Rising Cities’), утверждал, что сегодня город как место обитания человека снова становится главной надеждой и опорой демократии [Bauman, 2017: 122, 123].
Но какой именно демократии? – Уличных протестов и «желтых жилетов»? Или новых форм борьбы правых и левых, которая сегодня тоже выплескивается на улицы европейских городов? Или, наконец, «демократии» фейковых новостей и социально-сконструированных фактов? Одно очевидно: современная институциональная система подвергается серьезной эрозии. Поэтому утверждение, что мы, homini sapienti, зажаты между все более нерелевантным прошлым и непонятным будущим, представляется вполне справедливым. Этот переход сопровождается дальнейшей де-институциализацией, индивидуализацией и приватизацией условий нашего существования, а также индивидуальной «политикой жизни» и переходом от общественной к индивидуальной ответственности. Бауман заключает, что «мы сегодня живем на минном поле, о котором мы знаем (или думаем, что знаем), что оно усеяно взрывчаткой. Однако взрывы случаются здесь и там, и мы не имеем возможности предсказать, где и когда именно» [Bauman, 2017: 127, 129].