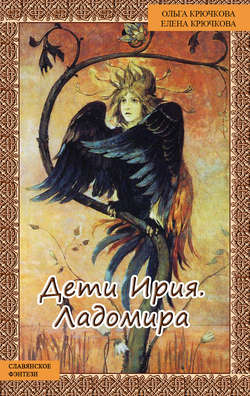Читать книгу Дети Ирия. Ладомира - Ольга Крючкова - Страница 4
Глава 3
ОглавлениеЗову Свет Рода Всевышнего, Силу Живильную Богов Родных
Наконец лес перед Ладомирой расступился, её взору открылась обширная поляна с возведённой на ней заставой. Заправлял здесь старший сын князя Радомира Калегаст.
Девушка приблизилась к распахнутым воротам, из которых выезжал конный разъезд. Один из конников узнал её:
– Здрава будь, Ладомира! – пожелал он. – Видал я, как брат твой Коршень мечом машет… Чай гостинцев ему принесла?!
Девушка кивнула в ответ. Всадники, пришпорив коней пятками, устремились по уезженной телегами дороге в направлении Альбы.
Тем временем Ладомира вошла на территорию заставы. На дозорных башнях блюли службу часовые. Всё у княжича было продумано до мелочей. Помимо того, что башни дозорные стояли круглые сутки, так ещё и схроны он приказал устроить в лесу вдоль тракта, ведущего к Велегошу. К тому же привлёк Калегаст на службу местных охотников. Те вроде и ремеслом своим занимались, да не забывали по сторонам оглядываться и сообщать княжичу о всех новостях и всех подозрительных случаях. За верную службу Калегаст награждал щедро. Любили за это княжича местные бодричи. Порой, когда неурожай случался, подкармливал Калегаст местных хуторян и те молили за него богиню Живу, бога Триглава и Ладу. Словом, вёл княжич политику дальновидную, соплеменников своих охранял, верой и правдой служил земле родной, отцу, семейству своему и Велегошу. Почитал Калегаст трёхликого Триглава, как бога войны, не забывал и его сыновей Руевита (семиликого) и Радегаста. Как заступил на заставу со своими дружинниками, тотчас приказал соорудить храм, где возносились хвалу богу отцу Триглаву и его сыновьям.
Ладомира беспрепятственно прошла мимо длинных домов, боле похожих на амбары, где жили воины, к ристалищу.
Подростки, начиная с тринадцати лет, призывались князем Радомиром к несению воинской повинности. Была она обязательной и почётной в течение трёх лет. Затем юноша определялся: вернуться в родной дом, жениться, обзавестись хозяйством, детишек народить, или посвятить жизнь свою сполна воинской службе.
Многие юные бодричи изъявляли остаться в дружине княжича Калегаста или воеводы Колота. Потому отбор был суров.
На ристалище новобранцы-подростки ворочили деревянными мечами, чтобы по-первости и неопытности не изувечить сотоварища. Спрятав левую руку под щит, безбородые юнцы, махали тренировочными клинками – удар, отбив… Ещё удар и снова отбив.
Чуть поодаль от юнцов сражались на настоящих мечах дружинники княжича. Дрались, как правило, до первой крови. Частенько за бранью наблюдали их сотоварищи и спорили на жбан медовухи или сурьи[20] на победителя. Хотя Калегаст пьянства не одобрял, порой разрешал своим воинам и новобранцам приложиться к жбану с терпким напитком.
Ладомира постояла подле ристалища: стучат щиты, лязгает железо… Чуть поодаль юнцы бегали по ристалищу с заплечными мешками, набитыми песком, развивая выносливость. Один, задохнувшись, не выдержал и упал на колени. К нему подошёл старший сотоварищ:
– Вставай, тютёха! Подымайся! Коли саксонец придёт из-за Альбы отдыхать некогда будет!
Юнец, собрав последние силы, поднялся с земли и снова побежал круг ристалища.
Ладомира тяжело вздохнула. Она была младше своего брата Коршеня на два года, который недавно стал дружинником, и догадывалась, что служба его в первый год была отнюдь нелёгкой. Девушка ещё раз окинула взором ристалище… У высокого частокола, что окружал заставу, группа дружинников метала копья в тряпичные куклы в человеческий рост, эмитировавшие саксонцев. Каждый бодрич должен попасть в цель.
Кто-то из воинов кидал арканы, ловили петлей друг дружку, не шутки ради – развивали ловкость. После чего упражнялись с длинными копьями, снабжёнными специальным крюком на конце, дабы в бою можно было стащить закованного в железо рыцаря с лошади.
Юнцы призывались на заставу в разгар весны. Но зато в конце лета, сев на лошадь, новобранец дивился своей силе. Табун княжича Калегаста числом ни мал – насчитывал почти сотню отменных лошадей, не считая жеребят.
За табуном требовался тщательный уход и потому княжич содержал цельную ораву конюхов, коих гонял нещадно, ибо лошадей любил, словно своих детей. Конюхи же дело своё знали, на Калегаста не обижались, когда тот взгревал их время от времени, дабы не ленились и не жирели на казённых харчах. Конюхи молились Авсеню, считавшемуся покровителем лошадей у бодричей, не забывали и о Велесе, потому, как с издревле повелось считать, что он не только поэт и сказитель, но и «скотий бог». А лошадь – скотина домашняя, дюжа умная и полезная.
Бодричи не забывали возносить молитвы богу Велесу:
«Велес, велемудрый, батюшка наш. Услышь славеса наши, обрати свой взор на дела наши, виждь нас, детей своих, мы пред твоим оком предстоим. Раденье тебе кладём, с чистотой сердец наших. На всяк день, аще и на всяк час, встань с духом нашим духом своим. Прими во ум твой деянья наши, и будь в них порукою. Ты волшбит и чародейство ведущий, за скотами и зверями радеющий, трясовиц прогоняющий, боли и хворобы изгоняющий, живота людине дающий, прими от нас – детей своих хваление сиё. Мы чтящие тебя и любящие, и любы от сердце дарящие, идеже и любиши ты тоюже любовию нас – детей своих. Прими в руцы свои дела наши! Соедени в единое, чтоб со душой спокойною и безметежною мы робили на благо наших сродников, детей наших и нас самих и проведи их к исполнению. Дай познать сладость жизни от тебя даденой – богатой. И отгони своим бичом страхи и козни, даруй ми силу от толики силы твоей. Отец мой, Велес великой, податель, в согласии со всеми сродниками, в мире духовном в семье пребывающий, даруй и ми спокойствия и благоденствия, до упокоения моего под твоим оком, под твоей дланью».
…Вечерами, теснясь у закопченных очагов, воины и новобранцы после тренировок и несения службы ели жадно и много. Калегаст ничего не жалел для своих людей. После сытного ужина наваливалась истома. Обитатели заставы располагались на низких полатях, застланных мягкими медвежьими, козьими, овечьими, лисьими и волчьими шкурами. На них спалось тепло и вольготно. В избах пахло жареным мясом, дымом, потными портянками. Дух был тяжёл, но сон сладок.
Саксонцы давно не нападали на бодричей, но соглядаев своих засылали исправно. Часто роль их играли саксонцы, фанатично преданные культу Логоса, но порой на территорию бодричей пробирались и славяне из числа пленных моравов, лужан и лютичей. Обращали саксонцы пленников в свою веру, брали в заложников их жён и детей, самих же отправляли шпионить к бодричам или поморянам. И ничего им не оставалось делать, как служить своим новым хозяевам.
Один из таких соглядаев из числа саксонцев по возвращении в Хаммабург, так отрапортовал Фридриху фон Хогерфесту, ландмейстеру ордена Золотого Креста:
«Хижины бодричей строятся или, вернее, скрываются в глубине лесов, на берегах рек и болот, и мы сделаем им честь, если сравним их с постройками бобров; подобно этим последним, они имеют по два выхода – один на сушу, а другой в воду, для того, чтобы облегчить бегство их диких обитателей. Своим грубым довольством славяне обязаны не столько своему трудолюбию, сколько плодородию почвы, а поля, которые они засевают пшеницей и птичьим просом, доставляют им, вместо хлеба, грубую и менее питательную пищу, то есть кашу. Они порой сражаются пешими и почти нагими и не носят никаких оборонительных доспехов, кроме тяжелого щита. Однако княжеские дружинники отличаются справной амуницией: нагрудником из варёной кожи, обшитым конскими копытами для прочности, а у тех, кто побогаче – металлическими чешуйками. Оружием для нападения служат для них лук, колчан с маленькими отравленными стрелами и длинная веревка, которую они ловко закидывают издали и затягивали на неприятеле в петлю. Также бодричи вооружены длинными пиками с крюками на конце, чтобы цеплять всадника за доспех, стащить его на землю из седла. В сражениях пехота славян может отличаться быстротой движения и перегруппировки, ловкостью и смелостью. Бодричи плавают, ныряют, словно рыбы и могут долго оставаться под водой при помощи выдолбленных тростниковых трубочек, сквозь которые вдыхают в себя воздух, так что могут устраивать засады в реках и озёрах…»[21]
Бывалые дружинники, служившие на заставе, знали Ладомиру в лицо. Поначалу многие заглядывались на пригожую девушку, покуда не узнали от Коршеня, что сестра его – послушница в храме богини Матери Сыра-Земли и намерена в должный срок стать жрицей. С тех пор обитатели заставы относились к Ладомире почтительно. Только безумец рискнёт разгневать великую богиню, дабы снискать благосклонность её послушницы.
К Ладомире подошёл здоровенный детина по имени Молот, прослуживший на заставе почитай четыре года и ставший, наконец, дружинником.
– Здрава буде, Ладомира! – поприветствовал Молот. Девушка чинно поклонилась дружиннику, прижимая увесистый узелок к груди. – К братцу, чай, наведалась?
Ладомира кивнула в ответ.
– На ристалище не разглядела его… Говорили, мол, мечом машет.
Молот рассмеялся.
– Скор твой братец. Углядеть за ним не успеешь! С ристалища ушёл. За заставой он, во всадников копья мечет!
Ладомира поклонилась Молоту.
– Благодарствуй… – ответила она и отправилась обратно к воротам.
За заставой на ровном месте, расчищенном от деревьев и корней, княжич приказал установить щиты, изготовленные из мягкой липы, каждый щит высотой в сажень, а шириной, как минимум – в три. Один из дружинников нарисовал на щитах сажей, разведённой в подсолнечном масле, всадников.
Калегаст всегда говорил своим подчинённым:
– Стрелку рука нужна крепкая! И потому не пропускай и дня на ристалище, не натянув тетиву и не метнув копья!
Трудно давалась наука метания копья новобранцам. Много слёз от обиды поливали он подле разрисованных щитов.
Старший десятник приводил своих подопечных к щитам на рассвете. И понеслось: целься, метай… Выдирай копьё из мягкой липы и всё по новой. Тем не менее, проходило время, крепчала рука, становился метким глаз. Поначалу новобранцы били копьями по щипам с ближнего расстояния, а со временем отходили почитай на триста шагов.
Копьё метать, не из лука стрелять – в первые же дни начинают понимать новобранцы. Хотя каждый подросток бодричей, будь то мальчик или девочка, владеют луком. Самодельными стрелами бьют они мелкую живность в лесу на пропитание семье.
Дружинники княжича Калегаста, облачённые в чешуйчатые доспехи с нашитыми на толстую кожу конскими копытами, с мечом или секирой на перевязи, со щитом на левой руке, с копьем в правой, колчаном и луком за спиной, с ножом за сапогом – учились ходить стаей, не разрываясь. Учились бегать одной стеной, поворачиваться, как один, останавливаться по приказу княжича. Передние ряды дружно по приказу метали копья в воображаемого неприятеля, за ними слаженно следовали задние ряды. Туча копий взмывали в воздух.
Затем, разделившись на два отряда, закрывшись щитами, обнажив мечи, бегом нападали друг на друга.
Каждый бодрич – мужчина и женщина – умел ездить верхом на лошади в седле и без седла, править уздой. Воин же обучался править только ногами, освободив руки для боя.
Давно на заставах повелось искусство развивать силу ног. Давали новобранцу камень, обшитый кожей, весом с пуд. И держать его коленями надобно стоя. У новобранцев быстро уставали, и камень падал наземь. Зато после первого года службы на заставе бодрич не нуждался в поводьях, правил конём только при помощи ног. Бывалые дружинники, чтобы наказать коня, так ноги могли сжать, что мутились от боли конские глаза и трещали ребра.
А через два года службы бодрич стрелами бил и метал копьё с коня, словно с твёрдой земли. Конные дружинники Калегаста, когда покидали заставу, шли ровным строем, по четыре всадника в ряду – любо-дорого глядеть. Опытные конюшие обучали молодых коней ложиться на землю и лежать смирно с прижатой к земле головой, дабы схорониться в поле или лесу от неприятеля в случае надобности.
…Ладомира вышла через ворота, обогнула заставу. Её взору предстало утоптанное поле. Шагах в трёхстах от неё стояли липовые щиты с изображением саксонских всадников. Подле них упражнялась группа дружинников, среди них девушка, наконец, разглядела и Коршеня.
Коршень, статный молодец семнадцати годов от роду, смотрелся старше своих лет. Был он крепок телом, развитые мышцы так и играли на обнажённом торсе. Коршень схватил копьё и метнул с двухсот шагов во всадника на щите. Копьё угодило прямо в голову саксонцу. Коршень вскинул голову, рассмеялся.
– В другой раз угожу ему прямо в глаз!
Дружным смехом поддержали его сотоварищи. Кто-то из них оглянулся, заприметил Ладомиру, передал Коршеню. Молодой дружинник тотчас подошёл к десятнику, наблюдавшему за тренировками. Солидный десятник кивнул – иди, мол, повидайся с сестрицей, поди, матушкиных пирожков с капустой принесла.
На заставе кормили справно, но вот пирожками не баловали. Поначалу над слабостью Коршеня к пирожкам сотоварищи подтрунивали. Но со временем перестали – больно скор был Коршень на расправу. Кулачных боёв не чурался.
Калегаст драки на заставе пресекал быстро. Однако часто устраивал бои стенка на стенку в качестве тренировки, да и поразмяться новобранцам и дружинникам не помешает. Команды формировал смешанные на равных из бывалых дружинников и новобранцев. После первого же боя новобранец Коршень заслужил похвалу одного из десятников, с которым дрался в одной команде. Тот похлопал юнца по плечу и сказал:
– Далеко пойдёшь, паря! Тока с правильной дорожки не сверни…
…Коршень подошёл к сестрице, обнял её.
– Давно не виделись… – сказал он. – Как там матушка с отцом?
Ладомира улыбнулась.
– Матушка, как всегда хлопочет по хозяйству. Отец в храме молитвы справляет. Вот пирожков тебе напекла с капустой, прошлогодней брусникой, да с гусиным мясом. При перечислении таких яств у Коршеня загорелись глаза.
– Ты же знаешь: жрать в одиночку на заставе не принято…
Ладомира усмехнулась
– Поди уж знаю. Который год к тебе тропинку топчу. Вона узелок-то, какой увесистый принесла.
– Скоро на обед нас скликать будут. Вот и угощу своих сотоварищей.
Ладомира протянула узелок брату.
– Возмужал ты, Коршень. Прямо мужиком справным стал… – заметила сестрица.
– Я теперь дружинник княжича! – гордо ответил брат.
– Знаю то… Тока матушка уж больно кручинится. Я богине в храме прислуживать стану, ты теперича – дружинник. А ей внуков хочется понянчить.
– Рано мне про приплод ещё думать! – отрезал Коршень. – Жизнь дружинника куда мне милее.
Ещё немного поговорив с братом, обнявшись на прощанье, Ладомира направилась к воротам. Её окликнул сотник княжича.
– Ладомира! Княжич просил письмо женке своей передать! – и протянул девушке пергаментный свиток.
Ладомира чинно поклонилась.
– Передай княжичу Калегасту – супружницу его Любаву навещу по возвращении в Велегош.
– Благодарствуй, – ответил сотник.
И Ладомира отправилась в обратный путь.
Вечерело. Ладомира миновала по выщербленному мостку малые ворота городища. Пройдёт ещё пара недель, и будут гнать этим путём горожане скотину на выгон. Трава к тому времени наберёт силу, нальётся соком. И коровы, овцы, козы, лошади, застоявшееся за зиму и весну в стойлах, насладятся свободой и свежей травой.
Ладомира прошла через рыночную площадь – дом княжича стоял аккурат напротив родительского расписного терема, и выглядел куда скромнее. Князь Радомир, правитель Велегоша, сына своего не баловал. Может быть, и вырос оттого Калегаст спокойным, справедливым, всепонимающим, чурался роскоши, делил со своими дружинниками все тяготы службы. Сам избу после свадьбы для своей семьи поставил. Подсобили ему только двое мужиков, что знали толк в строительстве. Приданое взял за Любавой богатое. Хотя в Велегоше поговаривали, что Любаву, дочь воеводы Колота, княжич бы и в одной рубашке принял – так полюбил её.
Зато Колот остался доволен: дочка – жена княжича! Не за горами тот день, когда и полновластной княгиней станет. Впрочем, Колот смерти Радомиру не желал. Князя своего почитал, как и положено, служил ему преданно.
…Дом княжича окружал справный глухой забор в человеческий рост. Ворота с вырезанным на дереве изображением птицы Сирина без труда могли пропустить трёх всадников вряд.
Ладомира вошла через калитку – внутренний двор кишел жизнью. По земле бегали куры, средь них важно прохаживались два кочета – старый матёрый с ярко-красным хохолком на голове и золотистым опереньем, и молодой, бело-коричневый, хохолок коего лишь пробивался на изголовье.
Старший золотистый кочет, ковырял цепкими когтями землю, пытался извлечь червяка и полакомиться им. Молодой же клевал просо из кормушки.
Подле хозяйственных построек стояло несколько клеток с тремя фазанами, десятком толстопузеньких перепелов, парой зайцев. Ладомира была наслышана, что Лесьяр частенько поставлял к столу княжича лесную живность.
Тут же стоял летний загон с козами – молодой пастух пригнал их с выпаса и вкупе с девкой-скотницей обихаживал живность в загоне. В сарае призывно мычали коровы с полным от молока выменем. Девка, закончив работу в загоне, поспешила к ним.
Из дальнего загона раздавалось дружное хрюканье – свиньи требовали сытного ужина.
Двор обволакивал лёгкий ароматный дымок, струившийся с крыши избы. Ладомира глубоко вдохнула – голод остро давал о себе знать. Она приблизилась к дому, толкнула тяжёлую дубовую узкую дверь с мощными медными петлями (на случай обороны), миновала выстланными домоткаными полосатыми дорожками с земляными полами сумрачные сени, свет проникал через небольшие оконца со слюдяными вставками. Ладомира распахнула ещё одну низкую дверь. Мастера сделала её такой не из экономии княжеских меркулов, а дабы зимой тепло не выходило из протопленной горницы.
Девушка вошла через дверь, кланяясь. В центре просторной горницы её взору предстал очаг, выложенный из дикого обработанного мастером камня. В нём жарко пылал огонь, на вертеле жарился молодой кабанчик. Стряпуха поливала его сурьей с травами, чтобы мясо пропиталось, стало мягким и вкусным. Над очагом крыша по-летнему раскрылась широким продухом для тяги дыма. Зимой продух закрывали, дым тянулся через открытую дверь. Зато когда дрова прогорали и дверь затворяли, в избе становилось тепло.
Крыша-стропа, собранная без потолка, виднелась только балка со стропилами-рёбрами. На рёбрах висели пучки лесных трав, отчего аромат жареного мяса перемежался с сурьей и многочисленными травами.
Подле очага располагался добротный деревянный стол, вдоль которого стояли широкие лавки, в случае необходимости припозднившимся гостям служившие ложем. Вдоль стены напротив стола возвышались деревянные полки, уставленные домашней утварью и глиняной посудой. Под нижней полкой стоял деревянный ларь, куда хозяйка убирала приготовленную пищу в случае надобности, дабы ей не привлекать грызунов.
Всё в жилище княжича дышало чистотой и уютом. Любава, молодая княжна и супружница Калегаста, слыла в Велегоше хозяйкой аккуратной, уборку делала в избе каждый месяц – стены, стол и полы сажей не зарастали.
К красном углу, что всегда располагался справа от окна, стоял прошлогодний дожиночный сноп[22]. На нём сидела кукла, скрученная из соломы умелой рукой хозяйки, изображавшая богиню Мать Сыру-Землю. Кукла была обряжена в красную рубаху, подпоясанную тонким тканым пояском (отсюда у славян и появилось название – красный угол). По обе стороны от дожиночного снопа стояли ещё две соломенные куколки, обе в ярко-жёлтых одеждах – богини Жива и Мокошь. Рожаницы, богини судьбы (сёстры Живы и дочери Матери Сыра-Земли), обе в белом, прядущие на своих магических прялках и наматывающие нити судьбы на веретёна сидели на лавке, стоявшей тут же подволь стены, недалеко от своих родичей. Соломенные Рожаницы «держали» в руках небольшие вырезанные из дерева веретёна с намотанными на них выкрашенными в красный цвет льняными нитями. Красный угол хозяйка, как и положено обновляла после жатвы: мастерила из дожиночной соломы прототипы богинь, обряжала их в новые рубашки.
Подле распахнутого окна за небольшим ткацким станком в виде берда-гребня трудилась Любава. Она ловко орудовала деревянным челноком, вдевая нити промеж щёток. Бёрд представлял собой плоскую дощечку, в которой проделано несколько десятков продольных щелей. В каждом «столбике», разделяющем две щели, было проделано отверстие. Таких отверстий могло быть – по вертикали – от одного до трёх, что позволяло усложнять узор, работая с нитками разных цветов. При создании полотна в бёрдо продевались нитки – как в продольные щели, так и в «столбиковые» отверстия. Затем бёрдо перемещалось вверх-вниз. Нити в продольных щелях оставались на месте, а нити, продетые в отверстия, смещались вверх– вниз. За счёт этого создавался «зёв» – промежуток между нитями основы. В этот «зёв» продевалась нить-утка – руками или с помощью деревянного челнока. Таким образом, женщина создавалась узкое полотно ткани или пояса. Любава прекрасно владела бердом и обеспечивала своё семейство, а также князя-свёкра со свекровью необычайной красоты поясками, полотенцами, скатертями.
Подле окна также сидела пригожая молодая женщина, Забава, наперсница княжны. Перед ней стояла тренога с пяльцами. Заваба увлечённо вышивала цветочный узор для праздничной рубахи, которую намеревалась надеть на предстоящее празднество Матери Сыра-Земли.
Часть горницы отделялась льняной занавесью. За ней располагалось супружеское ложе Калегаста и Любавы с летним одеялом и пуховыми подушками, подле него – детское спальное место в виде тюфяка набитого сеном, застеленного шкурой волка. На полу около хозяйки сидела девочка лет трёх, сосредоточенно наматывая цветную нитку на пальчик.
В углу стоял сундук, в коем хозяева хранили одежду и украшения…
– Здрава будь, Любава! И ты Забава… – Поприветствовала гостья.
Княжна обернулась. Забава кивнула, не отрываясь от рукоделья.
– Ладомира? Чай по делу, или так в гости? – Деловито справилась она.
– Письмо тебе от Калегаста с заставы доставила. Брата ходила проведать… – Девушка подала свиток княжне. Та быстро пробежала глазами по пергаменту…
Забава хихикнула.
– Пирожки, небось, носила? – Игриво вымолвила она.
Ладомира потупила очи долу.
– Ладно, не серчай. – Примирительно сказала Забава. – Все в городище знают: печёшь отменно.
Любава поднялась из-за берда.
– Садись за стол, Ладомира, отведай пищи нашей. Путь твой был не близким. Утомилась чай… Мясо ещё не прожарилось. Зато есть другая трапеза…
Любава жестом пригласила гостью к столу, та отказать не посмела. Не каждый день в доме княжича Калегаста едой потчуют.
Хозяйка отворила ларь, извлекла из него глубокий глиняный сотейник с отварным окороком дикой козы, приправленный травами и пареной репой. Поставила его средь стола, положила рядом длинный нож с костяной рукоятью.
– Калегаст вчерась с заставы прислал. Будто дома мяса нету! Лесьяр почитай каждый день из леса живность тащит!
Девка, хлопотавшая подле кабаньей тушки, вышла из горницы и вскоре вернулась с глиняной корчагой[23] свежего молока и с поклоном поставила её на стол. Тем временем княжна извлекла из ларя миску с сотовым мёдом и ломоть свежеиспечённого хлеба.
Девушка, ощутив очередной приступ голода, в животе у неё заурчало, ножом ловко отрезала кусок отварной козлятины и смачно откусила от него. Мясо хорошо поварилось и впитало аромат трав. Прожевав, гостья принялась за пареную репку…
Любава, жестом указав на хлеб, пожалилась:
– От зерна прошлогоднего остатки одни, поскрёбыши по амбару скребём. Не обессудь…
Ладомира отведала хлеба: и впрямь хлеб в доме княжича был нехорош ни вкусом, ни цветом. Лето только зачиналось – до сбора урожая пшеницы ещё не меньше трёх месяцев. Впрочем, рожь озимая вскорости поспеет.
* * *
Каждый год в середине травня с того самого момента, как ирийцы пришли в мир людей и обосновались в нём, Мать Сыра-Земля ощущала, как силы её идут на убыль. Она с нетерпением ожидала посвящённых ей празднеств, дабы наполниться земным Ваттеном.
Все славянские восточные племена за рекой Альбой: бодричи, лютичи, лужане, поморяне, вятичи, волыняне, моравы, поляне и другие готовились почтить великую богиню. В городищах Яромарград на острове Рюген, Велегоше, Щецине, Червене, Старгарде, Кракове, Поревите, Праге и их окрестностях готовились к весеннему празднеству. Хуторяне бесконечным потоком стекались в городища, дабы принять в нём участие и отдать дань богине.
В этот день, согласно славянским поверьям, Мать Сыра-Земля пробудившаяся от зимнего сна отдыхала последний день и её нельзя пахать, копать, боронить, нельзя втыкать в её колья.
В этот день славяне возносили молитвы Велесу, как скотьему богу, и Мокоши, покровительнице плодородия, ткачества и прядения. Жрецы Велеса выходили в поле, ложились на землю и слушали её. Затем совершали священный обряд: лили на землю сурицу, перемешанную с зёрнами, и произносили заклятие:
– Мать Сыра-Земля! Уйми, ты, всякую гадину нечистую от приворота, оборота и лихого дела.
Повернувшись на запад, продолжали:
– Мать Сыра-Земля! Поглоти ты нечистую силу в бездны кипучие, во смолу горючую.
Обратившись на восток, произносили:
– Мать Сыра-Земля! Утоли ты все ветры полуденные со ненастью, уйми пески сыпучие со метелью.
Повернувшись на север, молвили:
– Мать Сыра-Земля! Уйми ты ветры полуночные с тучами, сдержи морозы с метелями.
В это день женщины гадали по приметам о будущем. Воины, отложив оружие и положив на голову кусок дёрна, присягали Матери Сыра-Земле, обязуясь защищать её от врагов.
Молодая супружеская пара, получив благословление жреца Велеса, выходила в поле, ложилась на Мать Сыру-Землю и зачинала детей.
В Велегоше этой чести удостоилась молодая Забава с мужем Ярой. Шествие во главе со жрецом Велеса покинуло стены города, встало плотной стеной подле поля с озимыми. Забава с распущенными волосами, облачённая в новую холщёвую рубашку, расшитую цветными нитями, ту самую над которой она трудилась в доме княжны Любавы, рука об руку со своим мужем Ярой взошли на поле.
Заваба скинула с себя рубашку на глазах у бодричей, стоявших от мала до велика подле поля, ибо священное соитие не считалось сладострастием, а – честью перед богиней. Яр расстелил шкуру волка на озимых, скинул порты и привлёк к себе жену.
Набежавший ветерок разметал медовые волосы молодухи…
Ладомира, стоявшая подле главной жрицы храма Матери Сыра-Земли, залюбовалась соитием Забавы и Яра. Затем её охватило волнение и истома – внизу живота пульсировало. По рассказам девок послушница знала – это неразделённое желание с мужчиной. Перед глазами отчётливо встал образ Лесьяра…
Когда соитие молодых супругов вошло в завершающую стадию, Ладомира ощутила позади себя жаркое дыхание. Она слегка обернулась… «Лесьяр! – подобно удару молнии сознала она. – Лесьяр! Искушает меня на священном празднике!»
Но гнев Ладомиры угас, так и не разгоревшись. В глубине души она жалела, что не может взойти на поле с озимыми вместе с охотником и отдаться ему прилюдно на правах жены.
Наконец молодые супруги, завершив священное действо любви, покинули поле. Бодричи приветствовали их восторженными криками.
Лесьяр, воспользовавшись всеобщим религиозным порывом, прильнул к уху Ладомиры.
– Буду ждать тебя в своей хижине, как стемнеет…
Девушка в страхе отпрянула, оглянулась на жриц и послушниц – они, объятые восторгом, возносили хвалу молодым и великой богине.
…Настал черёд главной жрицы культа Матери Сыра-Земли. Она взошла на поле с озимыми и окропила его сурицей из священной храмовой чаши. Затем бодричи бесконечным потоком переместились на невозделанное поле, ожидавшее своего часа. Главная жрица окропила сурицей и его. Бодричи, приготовив специальные мешочки, которые носили на шее в течение всего последующего года, собирали в них горстями освящённую землю.
Намедни жрицы храма Матери Сырой-Земли с помощью послушниц возвели на одном из полей обережный круг из камней и установили внутри него каменный алтарь.
На каменном алтаре устанавливался факел, который поджигался священным огнём, добытым трением. Возле алтаря слева и справа ставили две чаши, наполненные родниковой водой. Сначала бралась чаша, стоящая слева, подносилась ко лбу, и главная жрица просила у Матери Сыра-Земли благословления. После чего она произносила:
– Боль-хвороба из чужого короба, откуда пришла, туда и пошла! Кто тебя послал,
тот по тебе заскучал! Тебя заклинаю, обратно отсылаю за синие реки, за высокие горы, туда, где тебя не найдут заговоры. Вернись к пославшему, горя не знавшему. С ним оставайся и не возвращайся.
То же самое действо жрица проделывала с правой чашей. Затем жрицы входили по очереди в обережный круг, вставали подле алтаря, возводили руки к небу и поизносили в едином религиозном порыве молитву. Послушницы, стоя вне круга, вторили:
– Ай же ты еси, Мать Сыра-Земля,
Земля родная, кормилица наша щедрая!
Всех ты нас породила,
Вспоила-вскормила,
Угодьем наделила,
Злак всякий прорастила.
Прости ты нас, в чём досадили тебе!
Челом тебе бьём,
Честну требу кладём,
Велику славу речём!
Ай же ты еси, Мать Сыра-Земля,
Земля родная, кормилица всеблагая!
Славна вовеки буди,
Обильна, щедрако людям!
Жито роди, род наш соблюди,
Во здраву святи!
Ладомира с трудом сосредоточилась, дабы правильно произнести слова молитвы, которые она, казалось, знала с детства. Супротив её воли в голове пульсировали слова Лесьяра:
– Буду ждать тебя в своей хижине, как стемнеет…
В это день птица Сирин совершала облёт земель бодричей. Она внимательно наблюдала за священным действом, приняв облик пушистой серенькой птички кукши. После возвращения в Радогош, ей предстояло дать подробный отчёт Матери Сыра-Земле. К тому времени богиня уже напитается новыми силами.
В день празднования Матери Сыра-Земли многие славянские племена, соседи бодричей из года в год наблюдали в небе огромных парящих птиц необычайной красоты и считали их посланниками великой богини. Славяне не ошибались, ибо птицы, парящие в небе, Семаргл, Гамаюн и Алконост, действительно выполняли свою миссию, а также черпали Ваттен от возносимых им молитв.
* * *
Сказание о Матери Сыра-Земле, писанное Велесом в городе Радогош.
Когда наступает весна, гром будит Мать Сыра-Землю. Когда она просыпается, то молодеет, украшает себя цветами, распространяет всюду силу и молодость.
Мать Сыра-Земля радуется солнцу, даруя людям урожаи. И она засыпает зимой, чтобы пробудиться весной от зимнего сна.
Давным-давно Мать Сыра-Земля лежала во мраке и в стуже. Была она мертва, не было ничего – ни света, ни звуков и никаких движений.
И тогда сказал Ярило, что нужно взглянуть сквозь кромешную тьму на Мать Сыру-Землю, пригожа ли она? И пламенный взор Ярилы пронзил мрак, который лежал над спавшей землёй. И там где его взор пронзил мрак и тьму, там воссияло солнце. И через солнце полились жаркие волны Ярилина света.
Мать Сыра-Земля начала пробуждаться ото сна и пить лучи света. И от этого света по недрам земли начала разливаться жизнь. Возлюбила Мать Сыра-Земля Ярилу, и от его поцелуев постепенно земля покрылась лесами, полями, реками, озёрами, цветами и злаками. На земле появились звери и птицы, в морях и реках её появились рыбы. Всё на земле ожило.
А Мать Сыра-Земля продолжала пить светлые лучи и породила она человека. И когда человек вышел из земных недр, Ярило ударил человека по голове золотой вожжой – ярой молнией. И от этого удара в человеке зародился ум, и стал человек отличаться от зверей.
А Мать Сыра-Земля радовалась, что любви Ярилы конца нет. Но через какое-то время начало холодать, дни стали короче. Мать Сыра-Земля затуманилась с горя и начала плакать, начались дожди на земле.
И тогда Ярило Матери Сырой-Земле сказал, чтобы она не печалилась, потому что он покинет её ненадолго, иначе сгореть ей под его поцелуями. А пока Ярилы не будет, земля будет спать под снеговым покровом до его прихода. А когда придёт время, пришлёт Ярило вестницу к земле, Весну Красну, а после уже и сам придёт. После этого ушёл Ярило, а Мать Сыра-Земля покрылась снегами и заснула до прихода весны.
* * *
Вечером, едва Велегош накрыли сумерки, Ладомира, ведомая доселе неизвестным чувством, покинула городище и устремилась в лес к хижине Лесьяра. Матушка вместе с отцом отправились в храм Агуни. Милослава напекла хлебов, чтобы задобрить божество, которому уже много лет служил её муж.
Креслав стал жрецом ещё в юности. Однажды в разгар жаркого лета загорелась изба его отца. В это время он вместе с родителем трудился в поле. А матушка с младшей сестрёнкой занимались домашним хозяйством. Пожар вспыхнул внезапно от искры очага, попавшей на тряпьё, и разнёсся по всей избе. Языки пламени лизали стены, пол, полати. Сухое дерево и крыша, крытая камышом, мгновенно занялись. Мать, находившаяся на заднем дворе, бросилась в дом и едва успела вытащить люльку с дочерью на улицу, как крыша рухнула…
Не ведавшие о несчастье отец и сын вернулись вечером с поля и застали вместо избы одни головешки. Всем миром Велегош помог отстроиться погорельцам заново. После чего Креслав стал послушником в храме бога Агуни, а через несколько лет и жрецом. Культ бога Агуни обзаводиться семьёй своим служителям не запрещал, потому Креслав благополучно женился на Милославе. И вскоре родился Коршень.
Но испытания Креслава не закончились. Несмотря на то, что он служил в храме Агуни, должен был трудиться и в поле, дабы прокормить своё семейство. Совмещать эти две обязанности было нелегко. Тем не менее, Креслав на судьбу не роптал и поступал как должно. Но когда Милослава ходила на сносях вторично, летом разразилась сильная засуха. Трава пожелтела, земля растрескалась, деревья роняли листья, колодцы обмелели. Русалки выходили на берег из лесного озера… Один лишь колодец Вилы был всегда полон прозрачной ключевой воды и та, несмотря на свой дурной нрав, делилась ею с бодричами. Правда, те не забывали приносить лесному духу щедрые дары.
Жрицы храмов Живы и Додолы молили богинь о помощи. Повсеместно на земле бодричей совершались обряды обливания водой Додолы. Для совершения обряда обливания водой находили девочку-сироту, родившуюся после смерти отца. На девочку надевали крашеный в зелёный цвет льняной костюм, имитирующий буйную зелень. Вместе с девочкой по дворам ходили женщины и исполняли обрядовую закличку:
«Гром гремучий,
Тресни тучи,
Дай дождя
С небесной кручи.
Секи, секи, дождь,
На бабину рожь,
На дедово семя —
Чтоб взошло вовремя.
Секи, секи, дождь,
На нашу рожь,
На бабину пшеницу,
На просо, чечевицу,
На дедов ячмень —
Поливай целый день!»
После исполнения обрядовой заклички и танца перед домом хозяева окатывали ряженую девочку водой. Имитируя дождь, иногда обливали через решето или сито, при этом «Додола» вертелась, чтобы разбрызгать вокруг себя побольше воды. После чего хозяева одаривали исполнителей. Собранные подарки и продукты участники процессии делили между собой – большую долю получала девочка-сирота. По окончании обряда участницами устраивалась совместная трапеза.
Но, увы, дождя всё не было. Напрасно бодричи всматривались в высокое голубое небо с раскалённым солнцем. Богини Жива и Додола безмолвствовали.
Тогда Креслав вместе с избранными горожанами оправились в священный Радогош, дабы умолить богиню Мать Сыра-Землю. Стекались к священному городу славяне с земель лютичей и поморян. Паломники пали ниц пред золотыми стенами города и денно и нощно возносили молитвы Матери Сыра-Земле.
Та сразу ощутила прилив Ваттена. Вопреки запретам Триглава, Перуна и Авсеня, она поднялась на стены города и предстала перед паломниками. Те ликовали – богиня снизошла на них из великого Чертога. И пообещала им дождь…
* * *
В этот же день в родовом чертоге Триглава разразился скандал. Триглав, а также пришедшие в связи с последними событиями Перун с Додолой и Авсенем, обвинили свою соплеменницу в нарушении закона о невмешательстве.
На что Мать Сыра-Земля ответила:
– Ещё с древних времён этот закон претил мне! Люди возносили мольбы Додоле и Живе! И что же?! Дождя нет и поныне! Земли бодричей, лютичей и поморян гибнут. Их народы умрут с голоду, не переживут зиму. Кто станет тогда питать вас Ваттеном? Итак, большая часть наших соплеменников уже уподобились смертным и завершили свой земной путь на погребальных кострах! Тем паче, Логос с каждым днём всё больше отнимает у нас силу! Молю вас забудьте об этом законе – иначе всех нас настигнет смерть!
Авсень тряхнул длинной белой, как лунь, бородой.
– Род не одобрил бы твоих слов. Ты намерена потратить большую часть Ваттена на вызов дождя. Твои силы истощатся… Это прямое вмешательство в судьбу здешних племён.
Однако Жива и её сёстры Рожаницы также не поддержали свою мать. Богиня так и осталась не понятой. Однако случилось чудо: по возвращении паломников домой начался дождь. Для обитателей Радогоша, ирийцев, стало загадкой: было ли это вмешательством со стороны Матери Сырой-Земли? Или всё-таки дождь пролился естественным путём? Учинили совет, на котором ирийцы-таки пришли к непреложному выводу: дождь пришёл сам, без помощи Ваттена Матери Сырой-Земли.
* * *
Однако Креслав, возвращавшийся в рядах бодричей в Велегош, принёс богине клятву: коли родится у него дочь – станет жрицей в храме Матери Сыра-Земли. В положенный срок Милослава разродилась девочкой, которую в храме Матери Сыра-Земли нарекли Ладомирой. Перед лицом богини Креслав повторил своё обещание: Ладомира станет жрицей.
Милослава приняла решение мужа, хотя в душе с ним не смирилась. Ибо знала: в жрицы богини Матери Сыра-Земли отдавали девочек-сирот или из семей, где родятся одни дочери. И без Ладомиры хватало желающих служить её культу.
В последнее время Милослава всё чаще хотела поговорить с мужем об участи дочери, но не решалась. Она хотела убедить Креслава – Ладомира должна выйти замуж, познать материнское счастье. Ведь старший Коршень не намерен связать себя семейными узами. Воинская служба – его удел. Что же станет с их семенем?
…Ладомира незаметно выскочила через малые ворота, пробежала по мосту. Ещё немного и пастухи будут гнать скотину домой, а затем ворота затворят на ночь. Но девушку охватило безумие, она неслась, не чуя земли под ногами. Ладомира более не терзалась сомнениями и не думала: что сделает с ней отец, когда узнает, что она провела ночь вне дома в объятиях охотника Лесьяра.
Ладомира ступила в сумрачный лес. Тотчас раздался голос Охальника:
– Руку давай… До хижины Лесьяра проведу. Чай заплутаешь ещё…
Ладомира отдышалась и пришла в себя – перед ней стоял леший, стыдливо прикрывший плащиком.
Она решительно протянула ему руку:
– Веди!
Охальник хихикнул.
– Совет вам да любовь, как говорится…
Ладомира не ответила. В этот момент она уже думала лишь об одном, как она скинет рубашку и бросится в объятия Лесьяра.
Ладомира и Охальник добрались до хижины Лесьяра, когда лес окончательно окутал мрак. Средь деревьев заиграл свет факела.
– Дошли! Говорил же: проведу. Я по лесу с закрытыми глазами ночью ходить могу.
Ладомира сверху вниз взглянула на Охальника. В этот момент его зелёная лохматая голова и длинные заострённые ушки показались девушке отчего-то особенно привлекательными. Она нагнулась и чмокнула лешего в нос. Её обдало запахом сыроежек, леший их особенно любил употреблять в пищу. Во время сезона грибов он собирал их и засушивал про запас.
– Спасибо тебе… – поблагодарила Ладомира. – Дальше я сама…
Леший вздохнул и скрылся в лесу. Девушка уверенно устремилась навстречу своей судьбе. Когда она вышла на небольшую полянку, на которой располагалась охотничья хижина, Лесьяр сидел на пеньке подле своего жилища и натягивал тетиву на новый лук. Рядом на кованой треноге пылал факел, хорошо освещая всю полянку.
– Лесьяр, – произнесла она. – Я пришла…
Охотник вздрогнул и оторвался от своего занятия.
– Ты?! – воскликнул он, отбросил лук наземь и устремился к Ладомире. – Не побоялась прийти?! – не верил он своим глазам, пока не заключил девушку в свои жаркие объятия.
– Боялась, ох как боялась… – призналась Ладомира. – Отец с меня завтра шкуру живьём спустит… Ну и пусть… Мне теперь всё равно, лишь бы с тобой быть…
Лесьяр, охваченный желанием, поднял Ладомиру на руки и унёс в хижину.
В полночь из леса на поляну вышла Вила – осмотрелась. Факел догорал в треноге. Неожиданно из хижины до неё донеслись девичий смех и голос Лесьяра. Вила метнулась к окну, затянутому бычьим пузырём. Но разглядеть через него внутренне убранство хижины ей не удалось. Тогда Вила прильнула к двери – та оказалась не запертой изнутри. Лесной дух в образе прекрасной девы, незаметно проскользнул в жилище и притаился за занавеской, отделявшей крохотные сени от горницы.
Взору Вилы открылся пылающий очаг. Подле него на шкурах нежились обнажённые Ладомира и Лесьяр. Медовые косы девушки разметались по медвежьей шкуре. Сама же она лежала, прильнув к груди охотника, утомлённая любовными ласками.
Неожиданно Вила ощутила укол ревности. Доселе она не придавала значения увлечению охотником. Тем паче, что горожанки не часто захаживали в его хижину, ибо слава о красавце охотнике, соблазнившем княгиню лютичей, шла впереди него. Теперь она понимала: Лесьяр потерян для неё навсегда. И не привлечь ей охотника множеством меркулов из своего потаённого сундука.
Вила также бесшумно, как и вошла, покинула хижину. Обернувшись, она плюнула на дверь, и хотела было лишить по своему обыкновению Лесьяра в отместку мужской силы. Но передумала и произнесла:
– Призываю кикимору, шишагу, полевого анчутку, бесов, оборотней, водяных, леших – всю лесную нечисть в свидетели. Не будет для Лесьяра боле счастья. Пусть погубит его любовь к Ладомире…
Вила перевернулась три раза на месте, плюнула через правое плечо и добавила:
– Ключ, замок, так тому и быть…
И ушла прочь.