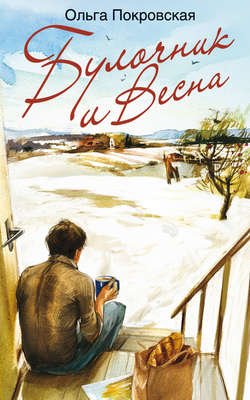Читать книгу Булочник и Весна - Ольга Покровская - Страница 17
Часть первая
17
Приглашение на завтрак
ОглавлениеПриглашение на завтрак озадачило меня. Ну ладно бы на ужин, на чай! Но, конечно, и завтраку я был рад. По сердцу, правда, гулял саднящий ветерок – я отвык ходить в гости и теперь сомневался в своём благонравии и чувстве такта. К тому же мне было не велено приносить хлеб – значит, предстояло явиться с пустыми руками.
В назначенное время я вышел из дому. Мелкий дождик проводил меня до забора Тузиных, а там из калитки уже выглядывал Николай Андреич – праздничный, в распахнутом пиджачке и забавной в контексте деревни белой сорочке. Длинноватые его волосы пропитались дождевой пылью и «дымились», в глазах потрескивал костерок, но белым, как лист, был воротник рубашки. Эту смесь строгости и эксцентричности я отметил про себя с удовольствием. По крайней мере, за завтраком не придётся скучать.
– Ну наконец-то! Я уж хотел за вами бежать! У нас, между прочим, практикуется по торжественным случаям самовар – самый что ни на есть тульский! Простынет – пиши пропало! – воскликнул хозяин и, приобняв меня крылатой рукой, повлёк к дому.
Мы поднялись на крыльцо, и сразу за нами, как занавес, опустился прибавивший силы дождь.
– Ничто так не дополняет уют, как непогода! – сказал Тузин, распахнув передо мною дверь. В лицо повалило блинным духом, и откуда ни возьмись мокрая кошка проскользнула под ногами в тепло. Пока в прихожей я снимал куртку, из кухни вышла хозяйка – бело-розовая и золотая, в шали. Волосы кудрявыми лучами выбивались из косы. На носу и щеках у Ирины обнаружились светлейшие веснушки, позолота прошлой весны. Хотелось потереть их пальцем – сойдут или останутся? В отличие от озабоченной тени, какую я видел в будни, Ирина-воскресная была весела. Улыбаясь, она протянула мне руку, но наше знакомство прервал вылетевший из кухни большой беспородный пёс. Мой визит возмутил его. Он взлаял, шерсть цвета старовесенней глины поднялась дыбом. Ирина решительно взяла его за ошейник и оттащила за дверь. Бунтаря звали на удивление логично – Тузик!
И вот наконец я могу осмотреть изнутри дом, приглянувшийся мне ещё в самый первый приезд в деревню. Это действительно «дворянская дачка» а-ля серебряный век.
В синей гостиной меня усадили на хрупкий диванчик. Думаю, ему было лет сто. Я так и не смог преодолеть музейный пиетет и старался сидеть вполвеса. Ореховая горка, рискованного изящества столик и кабинетный рояль с подсвечниками населяли комнату. Их чинную компанию сбивали с толку фотографии, развешанные по стенам несколько криво – как если бы свежий порыв листобоя позабавился с ними, пролетая через комнату.
Крашеные полы и огромные, позванивающие окна сводили на нет мнимый уют гостиной. Я мигом представил, как лет сто назад здесь бывало бедно и холодно. Правда, между шторами проглядывал лес – это значило, далёким обитателям дома хотя бы не приходилось топить книгами.
Тузин разочаровал меня, сообщив, что его настоящее родовое гнездо не сохранилось. Этот дом был выстроен дедом лет сорок назад по образу и подобию скромной усадьбы, бывшей здесь еще при царе. Кое-какую утварь из разграбленного удалось отыскать и выкупить по деревенским домам. Конечно, господский дом стоял не посередине деревни, а в стороне. Это место теперь всё заросло лесом.
– А в Старой Весне крепостные наши жили! – хитро улыбнувшись, прибавил он. – Колины, кстати, предки.
– Ну и нечем гордиться! – сказала Ирина, бросив на меня взволнованный взгляд – не обижен ли я вскрывшимся социальным неравенством? Ведь и мои предки жили в Старой Весне.
– А что, дорогой друг, не желаете ли посмотреть мою мастерскую? – предложил хозяин и с видом самым загадочным распахнул передо мной одну из выходящих в холл дверей.
Как я понял, пространство в доме было поделено на две зоны – тузинскую и Иринину. И если у Ирины в гостиной и на кухне царили ясность и чистота, то на территории Николая Андреича предметы стояли дыбом, некоторые как будто даже застыли в полёте. Под потолком болтался самодельный воздушный змей с подмигивающей улыбкой, а середину комнаты занял раскрытый и подвешенный за рукоять к потолку зонт, полный исписанных бумажек.
– Это что, корзина для мусора?
– Бог с вами! Это мой ежедневник! – возразил Тузин и решительно потребовал: – Тяните на удачу!
Я взял из глубины зонта какой-то мятый листок и прочёл: «Думать о Мотьке! Весну перекроить ей по росту».
– Ага! Ну Мотьку-то вы как раз видели! Это она пирог купила! – обрадовался Тузин.
– И что это значит?
– А я откуда знаю? Сказано – думать! Вот и думайте, примечайте, приглядывайтесь! Так ведь жить веселее!
Я не стал возражать. Мастерская Тузина и правда была полна развесёлого барахла. Помимо книг и папок там нашли приют несколько тряпичных кукол, свёрнутые в трубку афиши, балалайка, мольберт и старинные весы с чашами. Добро хранилось в пыли и тесноте – руки Ирины не посягали на чужую вотчину. Сам же хозяин мастерской был небрежен, сродни тому, как бывает небрежен лес, куда попало бросающий свои листья и шишки. В подтверждение своей мысли я приметил чуть правее зонта две корзины, полные листопада. Думаю, они нарочно были поставлены на ходу, чтобы закопавшийся в содержимом «ежедневника» гость споткнулся и обрушил осень на пол.
– Это вот моё! – сказал Тузин, обводя любящим взглядом комнату. – А Ирина вам своё покажет. Она, как Мороз Иванович, под периной грядки прячет! – и, улыбнувшись загадочно, сказал, что пойдёт на крыльцо греть самовар.
– Какие такие грядки? – спросил я у хозяйки.
– А зимние! – с охотой отозвалась Ирина.
Проведя меня через кухню, она открыла балконную дверь. Площадь маленькой оранжереи, куда мы попали, была метров семь. Никаких «оранжей» в ней не наблюдалось, зато на широкой доске вдоль окна тесно цвели фиалки: белые, розовые и синие всех оттенков – от лазури до грозовых туч. Но главное, на полу и правда были устроены две грядки в длинных дощатых ящиках. От них пахло землёй, летним ливнем, тёплой погодой. На одной росли петрушка, лук и укроп, на другой кустики земляники и какие-то чахлые травки – ромашка, мята.
Я нагнулся, взял зелёную ладонь петрушки, растёр и понюхал.
– Нравится? – волнуясь, спросила Ирина.
– Наверно, зимой хорошо у вас тут, – сказал я. – Всюду снег, а у вас – укроп.
– Зимой хорошо! – подтвердила она, кивнув золотой головой. – Это ведь живые витамины! Особенно для Миши! А то у него хронический тонзиллит. И потом, даже не в одних витаминах дело. Вот вы поживёте здесь и поймёте – зимой трудно человеку. Хочется ладони погреть на живой земле. Иногда Коля прибежит – Ирин, дай пополоть! Ну выдернет, конечно, половину! – она улыбнулась и, нарвав букет петрушки, протянула мне: – Жуйте!
По ту сторону окон гудел осенний сад. Вдруг на кормушку, закреплённую под окном, скакнул голубь. В первую секунду мне подумалось, что это какая-нибудь домашняя птица, такой толстый, холёный он был.
– Это Тишка! – сказала Ирина. – Вон какой боров! Откормили!
На одной ноге у голубя не хватало лапы. Как я узнал от хозяйки, её отгрызла кошка. («Нет, не Васька, не Васька – что вы! Другая, чёрная!») По этой печальной причине он хромал, но с другой стороны, не будь у Тишки увечья, Ирина не взяла бы его к себе на иждивение со всеми вытекающими блаженствами жизни.
– Ну запрыгивай! – велела она голубю и распахнула форточку.
Тишка неуклюже порхнул в проём и уселся на картинную раму, висевшую правее балкона.
– Пойдёмте? – сказала Ирина. – Самовар не ждёт. Это ведь вам не чайник!
– Да, – кивнул я, но никуда не пошёл. Не смог сдвинуться с места. Глаза мои прикипели к стене напротив – там, справа от двери, внутри деревянной рамы, на которую вспорхнул Тишка, зеленел холст. Он светил мне в лицо июльским зрелым теплом и за какую-то секунду пробрал меня до мурашек. Простая рамка – как рама окна – открывала зелёное поле с цветами на грубых стеблях – зверобоем, иван-чаем, ромашкой, и в цветах – две фигуры, схваченные порывом радости. Высокая девочка в красном сарафане, подлетев к матери и как бы в невесомости, почти параллельно траве, повиснув в воздухе, обнимала её за шею.
Лиц не было видно, но в летящей девочке я без труда узнал Ирину: её золотую косу и травинку силуэта, надломанную в поясе.
Самое же удивительное: источником света на картине являлись мать и дочь. Никаких нарочитых лучей или нимбов не излучалось ими, но расположение теней твёрдо указывало на них как на солнце. Тепло и цветение летнего дня было рождено не солнечным светом, а радостью свидания.
Я вопросительно обернулся к Ирине.
– Видите, там за полем посёлок начинается, – проговорила она, с нежностью глядя на картину. – Это Горенки, я там родилась.
– А кто рисовал?
– Илюша, мой двоюродный брат. Тёти-Надин сын. Видите, какой художник! Радостный!
Она помолчала, любовно разглядывая свою родину, и прибавила полушепотом:
– Это вот рай. Там меня моя мама встречает! – и тут же, как из переполненной чашки, из глаз пролились слёзы. Ирина стёрла их пальцами и, взобравшись на низкую табуретку, приложилась губами к ближнему краю луга.
– Я иногда подумаю: вот сошью себе красный сарафан и раз – окажусь на этом лугу… Всё не шью! – улыбнулась она и совсем уже поправившимся голосом проговорила: – Пойдёмте к Николаю Андреичу!
Я спустился за Ириной с балкона, таща на сердце нечаянно добытую тайну. Она заключалась в том, что Тузин – такой же баран, как я, раз его жена плачет.
В гостиной хозяина не было. Он возился на дождливом крыльце, уговаривая самовар закипеть. Белые манжеты были в копоти, на щеке красовался угольный штрих. Тузин стал похож на фарфорового трубочиста, изящного и милого в своей несмываемой саже.
– Я вам скажу, это не самовар! Это самодур! – сообщил он мне полушёпотом, как если бы опасался, что самовар может услышать и отомстить. – Кипит через раз! Погоду ему подавай особую! Щепки ему подавай особые! А в прошлый раз топили – так он плюнул в меня, как верблюд! Это вон Ирина с ним как-то договаривается. Ирина Ильинична, иди, разберись, Христа ради, с верблюдом! Нет у меня таланту!
– Не прибедняйся! – сказала Ирина. – У тебя в театре табуретки пляшут и гитары стреляют стрелами! – и, сев на корточки перед столом, заботливо поглядела в лицо самовару.
– Так то в театре! А здесь – твоя вотчина! – с улыбкой, предназначенной больше мне, чем жене, возразил Николай Андреич.
Ирина не отозвалась. Она ломала лучинки и бережно, как птенца, кормила ими обиженный самовар.
Я спустился на пару ступеней и зажёг сигарету. Ветер, сырой и душистый, внёс смятение в ряды дождя. Скоро над головами рябин и яблонь явилась просинь. Рваные водяные выстрелы ещё срывались с ветвей, одна такая пуля затушила мне сигарету. Что я делаю здесь, у чужих людей? Где все мои? Или мне снится?
Пока я курил, самовар, умасленный Ирининой лаской, вскипятил воду. Гул и звон водяного пара приглашал нас к трапезе. Туляка внесли в дом и приземлили на стол. Настал мой звёздный час – на два голоса хозяева принялись угощать меня чаем, блинами, мёдом и всеми вареньями, на которые звали Колю. Так что, можно сказать, я поквитался с моим соседом в один присест.
За завтраком без напряжения и заминок мы с Тузиными обсудили особенности старовесеннего климата, плюсы и минусы дизельного отопления и прочие вопросы загородного житья. Говорили о сомнительном качестве местной артезианской воды, перенасыщенной железом, и о несомненной пользе воды из родника, и даже о канувшей в землю речке Весне, которую, оказывается, ищет Коля.
Время двигалось к обеду. Остыл самовар, Ирина ушла на кухню поставить чайник. Мне давно пора было откланяться, а я всё сидел, ел варенье – лишь бы не идти на осенний ветер, не отпирать бытовку, где нет и не будет никого, кроме меня.
Чтобы моё присутствие выглядело оправданно, надо было срочно за что-нибудь зацепиться, и я зацепился за рояль.
– А инструмент – как, рабочий? Я так чувствую, ему лет сто? – спросил я.
– Больше! – с гордостью отозвался Тузин и, присев на табурет-вертушку, наиграл очень знакомый вальс. Музыка пахла стариной, свечами, печёными яблоками и, как всякая старинная вещь, была с щербинками.
– У меня есть друг, – сказал я, когда Тузин, лихо закруглив вальсок, вернулся к беседе. – Он сейчас занялся бизнесом, а вообще он музыкант. Он ещё очень хорошо настраивает инструменты. Хотите, он вам рояль настроит? Заедет ко мне как-нибудь, и я его попрошу.
– Ни в коем случае! – испугался Тузин и, распахнув руки, обнял свой рояль, словно желал защитить его от посягательств. – У меня тут ре во второй октаве – как рябь на воде! И фа диез у меня западает, вы слышали – такой перебой пульса! Если всё это исправить – что останется? Старинный инструмент может от настройки потерять себя! Вообразите, Костя: давайте мы вас настроим! Накрутим вам, где надо, друзей полезных, подтянем жизненный план! Как, согласны? Не дам рояль! – рявкнул он и засмеялся, увидев моё растерянное лицо.
Тут в прихожей зазвенел колокольчик – это вернулся с гулянья сын Тузиных Миша. Ирина кинулась встречать его. Раздевшись, Миша вошёл к нам, не церемонясь нисколько, разорил стол и с полным подносом утопал наверх. Он был совсем не похож на Ирину и лишь немного – на Тузина. Крепенький розовощёкий барчук. Ирина отнесла ему чаю.
Теперь уж точно пора было знать честь. Прощаясь, я выразил Ирине восхищение её домом и переборщил. «Это гостям интересно, – проговорила она с грустью. – А мне давно уж хочется большого прочного дивана, хочется стены жёлтенькие или кремовые. В такой-то поживите синеве!»
Наверно, это было невежливо, но я кивнул, соглашаясь с нею. Хрупкие предметы, белый воротничок, шаль, – весь их продуваемый дореволюционный быт вдруг показался мне нереальным, ещё менее жизнеспособным, чем мой сарай.
Спустившись с крыльца, я пошлёпал по мелким лужам дорожки. Тихо скользило надо мной небо, настоящее осеннее – волнистое и какое-то отрадное, душистое, как яблоко с холода. Как-то странно было у меня на душе. Ирина ли смутила меня своими слезами, или весь их наследный дом-музей оказался мне не по плечу?
Пока я отгибал на калитке служившую замком проволочку, Миша в окне второго этажа приложил к стеклу ружьё и расстрелял меня на прощанье.