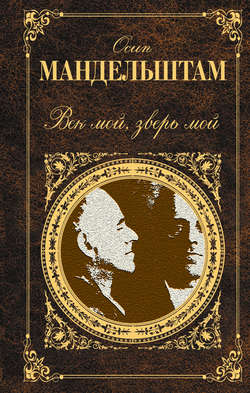Читать книгу Век мой, зверь мой (сборник) - Осип Мандельштам - Страница 56
Стихотворения
Воронежские тетради
Первая тетрадь
ОглавлениеЯ живу на важных огородах.
Ванька-ключник мог бы здесь гулять.
Ветер служит даром на заводах,
И далёко убегает гать.
Чернопахотная ночь степных закраин
В мелкобисерных иззябла огоньках.
За стеной обиженный хозяин
Ходит-бродит в русских сапогах.
И богато искривилась половица —
Этой палубы гробовая доска.
У чужих людей мне плохо спится —
Только смерть да лавочка близка.
* * *
Наушнички, наушники мои!
Попомню я воронежские ночки:
Недопитого голоса́ Аи
И в полночь с Красной площади гудочки…
Ну как метро?.. Молчи, в себе таи…
Не спрашивай, как набухают почки…
И вы, часов кремлевские бои, —
Язык пространства, сжатого до точки…
* * *
Пусти меня, отдай меня, Воронеж:
Уронишь ты меня иль проворонишь,
Ты выронишь меня или вернешь,
Воронеж – блажь, Воронеж – ворон, нож…
* * *
Я должен жить, хотя я дважды умер,
А город от воды ополоумел:
Как он хорош, как весел, как скуласт,
Как на лемех приятен жирный пласт,
Как степь лежит в апрельском провороте,
А небо, небо – твой Буонаротти…
* * *
Это какая улица?
Улица Мандельштама.
Что за фамилия чертова!
Как ее ни вывертывай,
Криво звучит, а не прямо.
Мало в нем было линейного,
Нрава он не был лилейного,
И потому эта улица
Или, верней, эта яма
Так и зовется по имени
Этого Мандельштама.
Чернозем
Переуважена, перечерна, вся в холе,
Вся в холках маленьких, вся воздух и призор,
Вся рассыпаючись, вся образуя хор, —
Комочки влажные моей земли и воли…
В дни ранней пахоты черна до синевы,
И безоружная в ней зиждется работа —
Тысячехолмие распаханной молвы:
Знать, безокружное в окружности есть что-то.
И все-таки земля – проруха и обух.
Не умолить ее, как в ноги ей ни бухай, —
Гниющей флейтою настраживает слух,
Кларнетом утренним зазябливает ухо…
Как на лемех приятен жирный пласт,
Как степь лежит в апрельском провороте!
Ну, здравствуй, чернозем: будь мужествен, глазаст…
Черноречивое молчание в работе.
* * *
Лишив меня морей, разбега и разлета
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчета —
Губ шевелящихся отнять вы не могли.
* * *
Да, я лежу в земле, губами шевеля,
Но то, что я скажу, заучит каждый школьник:
На Красной площади всего круглей земля,
И скат ее твердеет добровольный,
На Красной площади земля всего круглей,
И скат ее нечаянно-раздольный,
Откидываясь вниз – до рисовых полей,
Покуда на земле последний жив невольник.
Кама
I
Как на Каме-реке глазу темно, когда
На дубовых коленях стоят города.
В паутину рядясь, борода к бороде,
Жгучий ельник бежит, молодея в воде.
Упиралась вода в сто четыре весла —
Вверх и вниз на Казань и на Чердынь несла.
Там я плыл по реке с занавеской в окне,
С занавеской в окне, с головою в огне.
А со мною жена – пять ночей не спала,
Пять ночей не спала, трех конвойных везла.
II
Я смотрел, отдаляясь, на хвойный восток.
Полноводная Кама неслась на буек.
И хотелось бы гору с костром отслоить,
Да едва успеваешь леса посолить.
И хотелось бы тут же вселиться, пойми,
В долговечный Урал, населенный людьми,
И хотелось бы эту безумную гладь
В долгополой шинели беречь, охранять.
Стансы
1
Я не хочу средь юношей тепличных
Разменивать последний грош души,
Но, как в колхоз идет единоличник,
Я в мир вхожу – и люди хороши.
Люблю шинель красноармейской складки —
Длину до пят, рукав простой и гладкий,
И волжской туче родственный покрой,
Чтоб, на спине и на груди лопатясь,
Она лежала, на запас не тратясь,
И скатывалась летнею порой.
2
Проклятый шов, нелепая затея,
Нас разделили. А теперь – пойми:
Я должен жить, дыша и большевея,
И, перед смертью хорошея,
Еще побыть и поиграть с людьми!
3
Подумаешь, как в Чердыни-голу́бе,
Где пахнет Обью и Тобол в раструбе,
В семивершковой я метался кутерьме:
Клевещущих козлов не досмотрел я драки,
Как петушок в прозрачной летней тьме, —
Харчи, да харк, да что-нибудь, да враки —
Стук дятла сбросил с плеч. Прыжок.
И я в уме.
4
И ты, Москва, сестра моя, легка,
Когда встречаешь в самолете брата
До первого трамвайного звонка:
Нежнее моря, путаней салата
Из дерева, стекла и молока…
5
Моя страна со мною говорила,
Мирволила, журила, не прочла,
Но возмужавшего меня, как очевидца,
Заметила и вдруг, как чечевица,
Адмиралтейским лучиком зажгла…
6
Я должен жить, дыша и большевея,
Работать речь, не слушаясь, сам-друг.
Я слышу в Арктике машин советских стук,
Я помню всё: немецких братьев шеи
И что лиловым гребнем Лорелеи
Садовник и палач наполнил свой досуг.
7
И не ограблен я, и не надломлен,
Но только что всего переогромлен…
Как «Слово о полку» струна моя туга,
И в голосе моем после удушья
Звучит земля – последнее оружье,
Сухая влажность черноземных га!
* * *
День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток
Я, сжимаясь, гордился пространством за то, что росло на дрожжах.
Сон был больше, чем слух, слух был старше, чем сон, – слитен, чуток,
А за нами неслись большаки на ямщицких вожжах.
День стоял о пяти головах, и, чумея от пляса,
Ехала конная, пешая шла черноверхая масса —
Расширеньем аорты могущества в белых ночах – нет, в ножах —
Глаз превращался в хвойное мясо.
На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко,
Чтобы двойка конвойного времени парусами неслась хорошо.
Сухомятная русская сказка, деревянная ложка, ау!
Где вы, трое славных ребят из железных ворот ГПУ?
Чтобы Пушкина чудный товар не пошел по рукам дармоедов,
Грамотеет в шинелях с наганами племя пушкиноведов —
Молодые любители белозубых стишков,
На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко!
Поезд шел на Урал. В раскрытые рты нам
Говорящий Чапаев с картины скакал звуковой —
За бревенчатым тылом, на ленте простынной
Утонуть и вскочить на коня своего.
* * *
От сырой простыни говорящая —
Знать, нашелся на рыб звукопас —
Надвигалась картина звучащая
На меня, и на всех, и на вас…
Начихав на кривые убыточки,
С папироской смертельной в зубах,
Офицеры последнейшей выточки —
На равнины зияющий пах…
Было слышно жужжание низкое
Самолетов, сгоревших дотла,
Лошадиная бритва английская
Адмиральские щеки скребла…
Измеряй меня, край, перекраивай —
Чуден жар прикрепленной земли!
Захлебнулась винтовка Чапаева —
Помоги, развяжи, раздели!..
* * *
Еще мы жизнью полны в высшей мере,
Еще гуляют в городах Союза
Из мотыльковых лапчатых материй
Китайчатые платьица и блузы.
Еще машинка номер первый едко
Каштановые собирает взятки,
И падают на чистую салфетку
Разумные густеющие прядки.
Еще стрижей довольно и касаток,
Еще комета нас не очумила,
И пишут звездоносно и хвостато
Толковые лиловые чернила.
* * *
Римских ночей полновесные слитки,
Юношу Гете манившее лоно —
Пусть я в ответе, но не в убытке:
Есть многодонная жизнь вне закона.
* * *
Возможна ли женщине мертвой хвала?
Она в отчужденьи и в силе —
Ее чужелюбая власть привела
К насильственной жаркой могиле…
И твердые ласточки круглых бровей
Из гроба ко мне прилетели
Сказать, что они отлежались в своей
Холодной стокгольмской постели.
И прадеда скрипкой гордился твой род,
От шейки ее хорошея,
И ты раскрывала свой аленький рот,
Смеясь, итальянясь, русея…
Я тяжкую память твою берегу,
Дичок, медвежонок, Миньона,
Но мельниц колеса зимуют в снегу,
И стынет рожок почтальона.
* * *
На мертвых ресницах Исаакий замерз,
И барские улицы сини —
Шарманщика смерть и медведицы ворс,
И чужие поленья в камине…
Уже выгоняет выжлятник пожар —
Линеек раскидистых стайку,
Несется земля – меблированный шар,
И зеркало корчит всезнайку.
Площадками лестниц – разлад и туман,
Дыханье, дыханье и пенье,
И Шуберта в шубе замерз талисман —
Движенье, движенье, движенье…
* * *
За Паганини длиннопалым
Бегут цыганскою гурьбой —
Кто с чохом – чех, кто с польским балом,
А кто с венгерской чемчурой.
Девчонка, выскочка, гордячка,
Чей звук широк, как Енисей,
Утешь меня игрой своей —
На голове твоей, полячка,
Марины Мнишек холм кудрей,
Смычок твой мнителен, скрипачка.
Утешь меня Шопеном чалым,
Серьезным Брамсом, нет, постой —
Парижем мощно-одичалым,
Мучным и потным карнавалом
Иль брагой Вены молодой —
Вертлявой, в дирижерских фрачках,
В дунайских фейерверках, скачках,
И вальс из гроба в колыбель
Переливающей, как хмель.
Играй же на разрыв аорты,
С кошачьей головой во рту!
Три черта было, ты – четвертый,
Последний, чудный черт в цвету!
* * *
Бежит волна – волной волне хребет ломая,
Кидаясь на луну в невольничьей тоске,
И янычарская пучина молодая,
Неусыпленная столица волновая,
Кривеет, мечется и роет ров в песке.
А через воздух сумрачно-хлопчатый
Неначатой стены мерещатся зубцы,
А с пенных лестниц падают солдаты
Султанов мнительных – разбрызганы, разъяты,
И яд разносят хладные скопцы.
* * *
Исполню дымчатый обряд:
В опале предо мной лежат
Морского лета земляники —
Двуискренние сердолики
И муравьиный брат – агат,
Но мне милей простой солдат
Морской пучины – серый, дикий,
Которому никто не рад.
* * *
Не мучнистой бабочкою белой
В землю я заемный прах верну —
Я хочу, чтоб мыслящее тело
Превратилось в улицу, в страну:
Позвоночное, обугленное тело,
Сознающее свою длину.
Возгласы темно-зеленой хвои,
С глубиной колодезной венки
Тянут жизнь и время дорогое,
Опершись на смертные станки, —
Обручи краснознаменной хвои,
Азбучные, крупные венки!
Шли товарищи последнего призыва
По работе в жестких небесах,
Пронесла пехота молчаливо
Восклицанья ружей на плечах.
И зенитных тысячи орудий —
Карих то зрачков иль голубых —
Шли нестройно – люди, люди, люди, —
Кто же будет продолжать за них?